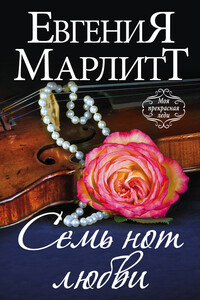Я попыталась было помочь Илзе, но моя помощь была отвергнута. Илзе, бросив беспокойный взгляд на больную, молча отвела мои руки, но разрешила мне остаться.
Укрывшись за балдахином, я присела на скамеечку у изножья кровати и со стеснённым сердцем начала разглядывать эту странную комнату. Она была самой большой в доме и по размерам напоминала скорее зал; возможно, бабушка велела снести одну из перегородок, чтобы увеличить пространство. Стены были покрыты обоями с вытканными фигурами. Я не могла отвести глаз от изображения ребёнка с лицом, исполненным красоты, печали и кротости — это был юный Исаак, привязанный к поленнице. Обои были очень старые, траченые молью — например, выразительной фигуре Авраама недоставало глаза и поднятой руки. У стен, словно рота почётного караула, стояли кресла с высокими спинками и бархатной цветастой обивкой. Только много позже я смогла оценить красоту этих кресел и искусную резьбу по дереву ценнейших пород на других предметах мебели; но тогда, когда я впервые разглядывала эту комнату, мне казалось, что со всех шкафов и комодов на меня угрожающе смотрят разнообразные звери и сказочные существа.
Тёмные краски и мрачные углы жадно высасывали свет из двух стоящих на столе ламп. Тёмными были и ковёр под моими ногами, покрывающий почти всю комнату, и низкий деревянный потолок над головой. И лишь нагие тела на выцветших обоях возвращали тут и там неверный отблеск, да один-единственный светлый предмет парил в мягком сиянии, как прекрасная белая голубка во мраке — это был свисавший с потолка серебряный подсвечник с белыми восковыми свечами.
За те тоскливые часы, которые я провела в оцепенении у кровати, бабушке, казалось, стало лучше. Широко открыв глаза, она огляделась вокруг, выпила немного воды, и в этот момент к ней вернулась речь.
— Что со мной? — спросила она надломленным, совершенно изменившимся голосом. Вместо ответа Илзе склонилась над ней — я думаю, у неё от жалости перехватило горло — и заботливо и нежно отвела ей волосы со лба.
— Моя старая Илзе! — пробормотала больная. Она попробовала подняться, но ей это не удалось — и она посмотрела на свою левую руку странным, удивлённым взглядом.
— Омертвела! — вздохнула она и снова опустила голову на подушку.
Этот полувозглас-полувздох наполнил меня липким ужасом. Я сделала невольное движение, отчего скамеечка подо мной сдвинулась, а полог на кровати заколыхался.
— Кто ещё в комнате? — спросила бабушка, прислушиваясь.
— Дитя, милостивая сударыня, Леонора, — нерешительно ответила Илзе.
— Дитя Виллибальда — ну да, я её знаю, она бегает босиком по пустоши и поёт на холме — я не могу слышать пение, Илзе!
Я знала это; я ни за что не должна была петь в Диркхофе — а мне так нравилось петь! Мне казалось, что звуки музыки, как крылья, возносят мою душу ввысь. Я пела на вершине холма и в Хайнцевой хижине, да так, что в ней на окнах трепетали занавески; но мне и в голову не приходило, что бабушка в Диркхофе могла слышать мое пение.
Я поднялась и, дрожа, приблизилась к ней на шаг.
— Миниатюрная, как и её мать, — пробормотала она про себя, — с огромными глазами и скудным холодным сердцем, и ей тоже лили на лоб крестильную воду!
— Нет, бабушка, — сказала я спокойно, — у меня вовсе не холодное сердце!
Она поглядела на меня с таким удивлением, будто считала, что маленькое создание может лишь петь, а не говорить, и уж меньше всего обращаться к ней. Илзе отодвинулась за полог и оттуда делала мне знаки, чтобы я замолчала; Илзе, наверное, боялась, что моё неожиданное выступление может спровоцировать у больной новый приступ психического расстройства. Но бабушка оставалась абсолютно спокойной; её глаза, не отрываясь, смотрели на меня. Эти глаза, взгляда которых я всегда ужасно боялась, были очень красивыми; в их тёмном блеске было, конечно, что-то жутковатое, но в них была душа и ясная мысль.
— Подойди-ка ко мне! — прервала она наконец воцарившееся молчание. Я приблизилась вплотную к её кровати.
— Знаешь ли ты, что такое любить кого-нибудь? — спросила она, и в её надтреснутом голосе прозвучали грудные ноты.