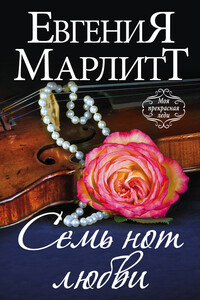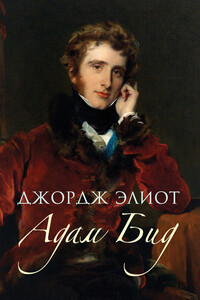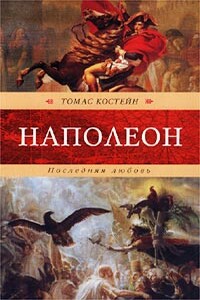— Моя милая малышка Леонора, проще всего будет самой обсудить этот вопрос с господином Клаудиусом, — улыбаясь, перебила меня пожилая дама, едва я начала излагать свою просьбу.
— С ним можно поговорить? — стеснённо спросила я.
— Ну конечно, любому человеку… Пройдите наверх в первый салон, где висит портрет Лотара — сегодня уже многие там побывали; салон ему служит пока рабочей комнатой.
Я поднялась наверх. Перед дверью я на секунду застыла и прижала руки к груди, боясь задохнуться от лихорадочного биения сердца. Затем я тихонько вошла. Комната не была сильно затемнена, как я думала. Окна были занавешены зелёной тканью, пропускавшей мягкий, благотворный свет. Господин Клаудиус сидел ко мне спиной, положив голову на спинку кресла — его глаза закрывала зелёная повязка… Казалось, он не заметил, что кто-то вошёл — или, может быть, думал, что это фройляйн Флиднер, — он ни на йоту не изменил своего положения.
Ах, теперь исполнилось моё сокровеннейшее, отчаяннейшее желание — я снова видела его! Я не могла говорить — я ужасно боялась услышать свой голос в тихой комнате. Я бесшумно подошла поближе и робко взяла его за левую руку, свисавшую с подлокотника кресла… Белокурая голова ещё застыла в своём неподвижном положении, но правая рука молниеносно скользнула к левой, и я вдруг оказалась в плену.
— Ах, я знаю, кому принадлежит маленькая смуглая ручка, которая боязливо вздрагивает между моими пальцами, как робкое птичье сердечко, — воскликнул он, не поднимая головы. — Я ведь слышал, как кто-то нерешительно поднимается по лестнице, и в этих шагах отчётливо слышалось: «Войти или нет? Должно ли победить сочувствие к бедному пленнику или прежнее упрямство, которое дожидается, когда он покинет свою темницу и придёт ко мне?»
— О господин Клаудиус, — перебила я его, — я не была упрямой!
Он быстро повернул ко мне лицо, не отпуская моей руки.
— Нет-нет, Леонора, не были, — сказал он нетвёрдым голосом, — я знаю это… Моё окружение не подозревает, почему я именно в сумерки нетерпеливо вслушивался в каждый звук и повелительно требовал глубочайшей тишины. Именно тогда я начинал слышать духовным слухом, а может быть и тоскующим сердцем — потому что я точно знал, когда лёгкие девичьи ножки покинут «Усладу Каролины», я следовал за каждым их шагом по саду и лестнице и страстно ждал шёпота: «Как он? У него сильно болит?» — это не звучало упрямо… А потом я видел, как дикие локоны знакомым движением отбрасываются со лба, а огромные, любимые, злые глаза не отрываются от губ фройляйн Флиднер, рассказывающей о моём здоровье…
Я забыла всё, что нас разделяло, и без сопротивления отдалась власти момента.
— Ах, она не понимала меня так хорошо, — сказал я. — Я страстно желала, чтобы она хоть один-единственный раз привела меня к вам. Мне бы было спокойнее, если бы я могла посмотреть в ваши глаза, а вы бы мне сказали: «Я вас вижу!»… Пожалуйста, хоть на мгновение снимите повязку!
Он вскочил, снял повязку и бросил её на стол. Его стройная фигура была такой же высокой, гибкой и гордой, как всегда.
— Ну вот, я вас вижу! — ответил он, улыбаясь. — Я вижу, что маленькая Леонора за пять долгих недель не выросла ни на миллиметр и своей кудрявой головкой достаёт мне как раз до сердца. Ещё я вижу, что эта голова всё так же упрямо и своевольно откинута назад — конечно, что вы можете поделать, если природа хочет видеть вас маленькой феей! Ещё я вижу, что смуглое личико стало бледным, бледным от страха, печали и ночных бдений… Бедная Леонора, нам надо многое решить, вашему отцу и мне!
Он схватил мою руку и хотел мягко привлечь меня к себе, но я вдруг опомнилась, и моё сердце окатила мучительная волна осознания собственной вины. Я вырвала руку.
— Нет, — вскричала я, — не будьте со мной таким добрым — я этого не заслужила!.. Если бы вы знали, какое я отвратительное создание, какой я могу быть вероломной, фальшивой и жестокой, вы бы выгнали меня из дома…