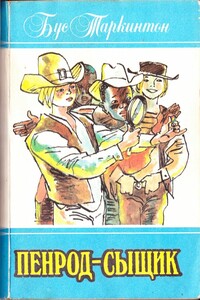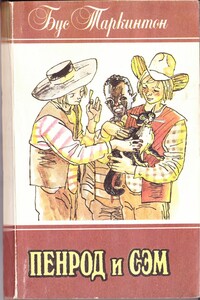До двенадцати лет у Джорджи было домашнее образование, и учителя ходили к нему; жаждущие его провала горожане поговаривали: "Вот погодите, пойдет в государственную школу, получит на орехи!" Но как только Джорджи исполнилось двенадцать, его отправили в частную школу, и из этого маленького и зависимого заведения не было ни слуху ни духу о том, что Джорджи наконец настигла расплата; но недоброжелатели упорно ждали, пожирая себя изнутри. Ведь, несмотря на все с трудом переносимые барские замашки и наглость Джорджи, учителя отдались во власть его личности. Они не любили его — слишком уж заносчив — но он постоянно держал их в таком эмоциональном напряжении, что думали они о нем гораздо больше, чем о любом из остальных десяти учеников. Напряжение обычно исходило из уязвленного самолюбия, но иногда это было зачарованное восхищение. Если говорить по совести, он почти не "учился"; но временами на уроке он отвечал блестяще, выказывая понимание предмета, какое редко бывало у остальных учеников, и экзамены сдал с легкостью. В конце концов, без видимых усилий, в школе он получил зачатки либерального образования, но так ничего и не понял о себе.
Жаждущие отмщения не подрастеряли пыла, когда Джорджи исполнилось шестнадцать и его отослали в знаменитую "подготовительную школу". "Ну вот, — обрадовались они, — тут он свое и получит! Попадет к таким же мальчишкам, как он, что у себя в городках верховодили, они-то из него спесь повыбьют, как только нос задерет! Да уж, на это стоило бы посмотреть!" Как оказалось, они ошиблись, потому что когда несколько месяцев спустя Джорджи приехал обратно, спеси в нем меньше не стало. Его отправило домой школьное начальство за, как формулировался состав его преступления, "дерзость и невежество"; на самом деле он просто послал директора школы примерно по тому же маршруту, против которого когда-то выдвинул возражение преподобный Мэллох Смит.
Но воздаяние так и не настигло Джорджи, и те, кто рассчитывал на расплату, с горечью наблюдали, как он сломя голову носится по центру города на двуколке, заставляя прохожих на перекрестках пятиться и ведя себя так, словно он "хозяин мира". Возмущенный продавец скобяных изделий, который, как и многие, спал и видел крах Джорджи, почти попал под колеса и, отступая на тротуар, потерял самообладание, выкрикнув модное в том году уличное оскорбление: "Совсем мозгов нет! Слышь, пацан, твоя мама знает, что ты гуляешь?"
Джорджи, даже не соизволив взглянуть на мужчину, так ловко взмахнул длинным кнутом, что от штанов торговца, чуть пониже талии, взлетело облачко пыли. Тот, хоть и продавал скобяные изделия, сам из железа сделан не был, поэтому взревел, озираясь в поисках камня, не нашел ни одного и, вроде бы взяв себя в руки, заорал вслед удаляющейся повозке: "Брючины отверни, хлыщ недоделанный! Энто в чертовом Лондыне дожди! Чтоб тебе сквозь землю провалиться!"
Джорджи не стал поощрять его и сделал вид, что не слышит. Двуколка свернула за угол, откуда тоже раздались негодующие крики, и, проехав чуть дальше, остановилась перед "Эмберсон-Центром" — старомодным кирпичным зданием с бакалеей внизу, все четыре этажа которого были забиты юристами, страховщиками и торговцами недвижимостью. Джорджи привязал взмыленного рысака к телеграфному столбу и помешкал, критично оглядывая строение: оно показалось ветхим, и Джорджи подумал, что неплохо бы деду возвести на этом месте четырнадцатиэтажный небоскреб или даже повыше, такой, как он недавно видел в Нью-Йорке, когда на несколько дней останавливался там передохнуть и развеяться по пути домой из осиротевшей без него школы. Около главного входа висели разные жестяные таблички с именами и профессиями тех, кто занимает верхние этажи, и Джорджи решил прихватить с собой парочку, а то вдруг он всё же отправится в колледж. Правда, он не стал срывать их прямо сейчас, а поднялся по истертой лестнице — лифта в доме не было — на четвертый этаж, прошагал по темному коридору и три раза стукнул в дверь. Это была таинственная дверь, на матовом стекле которой не обозначили, кто тут обитает и чем занимается, но вверху, на деревянной перемычке, нацарапали две буквы, начав фиолетовыми чернилами и закончив свинцовым карандашом, — К.Д., а на стене над дверью изобразили столь дорогие сердцу юнцов череп и скрещенные кости.