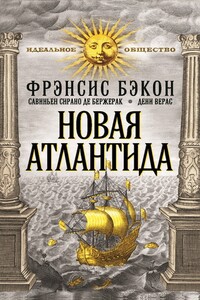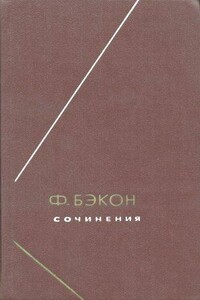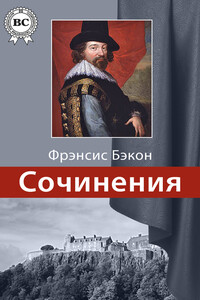Однако Анаксимен принял за единственное начало вещей воздух. Ведь если масса должна быть принята во внимание при установлении начал вещей, то воздух занимает самую большую часть Вселенной. В самом деле, если мы отвергаем представление о существовании особого пустого пространства, а также предрассудок о разнородности небесного и подлунного, то мы должны думать, что все пространство между земным шаром и пределами небес, все части этого пространства, не занятые ни звездами, ни метеорами, заполнены воздушной субстанцией. Но весь земной шар по сравнению с небесной сферой представляется чем-то вроде точки. И насколько мала та часть самого эфира, которая занята звездами! В ближайших к земле сферах отдельные звезды видны поодиночке, и хотя в более отдаленных сферах число звезд огромно, однако они занимают малое пространство по сравнению с расстоянием между ними; так что все существующее как бы плавает в огромном воздушном море. Кроме того, и в воде, и во впадинах земли имеется немало воздуха и воздушной субстанции, благодаря которой воды получают свою текучесть, а иногда расширение и вспучивание; и земля, помимо того что обладает пористостью, подвергается время от времени колебаниям и потрясениям, которые являются явными признаками сдавленного ветра и воздуха. И если наиболее пригодной для роли начала вещей является посредствующая природа, способная обеспечить такое разнообразие, то такое начало мы как будто в полной мере находим в воздухе. Ибо воздух является как бы средством всеобщей связи вещей не только потому, что он имеется везде, проникает в пустоты и занимает их, а, скорее, в силу того, что он обладает как бы посредствующей и безразличной природой. В самом деле, воздух принимает и проводит свет, темноту, окраску всех цветов и тусклый цвет тени, передает с величайшей точностью разные впечатления и оттенки музыкальных тонов и (что важнее) членораздельных звуков, принимает и не смешивает различия запахов, не только общих, вроде душистого, зловонного, тяжелого, крепкого и т. п., но своеобразных и специфических, как запах розы или фиалки; воздух одинаково восприимчив к устойчивым и сильным свойствам жары, холода, влажности и сухости; в нем, пребывая, плавают водяные пары и испарения жиров, соли и металла; в нем, наконец, тайно сходятся и спорят между собой лучи небесных тел и наиболее скрытые согласия и несогласия вещей. Воздух, таким образом, является вторым хаосом, в котором действуют, бродят, враждебно сталкиваются и мерятся силами семена столь многих вещей. Наконец, если мы обращаемся к производительной и животворящей силе в вещах как к той, которая служит указанием на начала вещей и их выявляет, то и в этом случае мы как будто придем к воздуху как к основному началу. Недаром же названия воздуха, духа и души употребляются иногда как синонимы, а это делается с полным основанием, так как дыхание является как бы неразлучным спутником наиболее зрелых стадий жизни (т. е. за исключением первых зачатков жизни в эмбрионах и в яйцах), так что рыбы задыхаются, когда поверхность застывает и замерзает. Даже огонь умирает, если он не оживляется окружающим воздухом; да и огонь нам представляется воздухом, подвергшимся трению, возбужденным и воспламененным, как и вода, с другой стороны, нам представляется застывшим и сжатым воздухом. Земля точно так же беспрестанно выдыхает воздух и вовсе не нуждается в промежуточной стадии воды, чтобы перейти в состояние воздуха.
Гераклит, с другой стороны, с большим остроумием, но менее правдоподобно сделал началом вещей огонь. Ибо в качестве начала вещей он выбрал не промежуточную природу, которая бывает обычно наиболее неопределенной и тленной, а законченную и совершенную, которая завершает собой всякое преобразование и изменение. Дело в том, что Гераклит видел, что величайшее разнообразие и смешение можно встретить в твердых и плотных телах, ибо такие тела могут быть органическими и подобны машинам, которые уже благодаря одной своей конфигурации допускают бесчисленные вариации. Таковы, например, тела растений и животных. И даже те из тел, которые не являются органическими, оказываются при внимательном рассмотрении весьма различными между собой. В самом деле, сколь различны между собой те части животных, которые называются подобными, -- мозг, стекловидная влага, глазной белок, кость, перепонка, хрящ, жила, вена, мясо, жир, костный мозг, кровь, семя, дух, млечный сок и т. п.; соответственно в растениях -- корень, кора, ствол, лист, цвет, семя и т. п.? Ископаемые, конечно, не являются органическими, и тем не менее и они обнаруживают большое разнообразие внутри каждого вида и еще более богатое разнообразие между различными видами. Вот почему представляется, будто это огромное разнообразие, наблюдаемое среди обширного ряда наличных и действующих реальных существ, имеет своей основой твердую и плотную природу. Но жидкие тела совершенно лишены свойств органической структуры, ибо во всей видимой природе нельзя найти животное или растение, которые обладали бы совершенно жидким телом. Таким образом, из жидкой природы исключено, изъято бесконечное разнообразие. И все же разнообразие, и в не малой степени, присуще и природе жидкости, как это явствует из огромного различия, существующего между расплавленными телами, разными соками, жидкостями и т. п. В воздушных же и пневматических телах это разнообразие значительно более ограничено, и его место занимает какое-то безразличное однообразие вещей. Действительно, цвет и вкус, которыми обладают еще иногда жидкие тела, совершенно не присущи воздушным телам: способность обладать запахом и кое-что другое у них остается, но лишь как нечто преходящее, беспорядочное и отделимое от них, так что можно установить как общее правило, что, чем ближе тела приближаются к природе огня, тем больше они теряют в разнообразии. И после того как тела перешли в состояние огня в его надлежащем и чистом виде, они отбрасывают все органическое, всякое специфическое свойство и всякое несходство между собой, и кажется, будто природа сжимается в одну точку на вершине пирамиды и будто она достигла предела свойственной ей деятельности. Вот почему это воспламенение, или пожар, Гераклит называл миром, ибо здесь природа приводится к единству; рождение же он называл войной, так как оно ведет ко множеству. И чтобы этот закон (в силу которого все существующее, подобно морскому приливу и отливу, переходит от разнообразия к единству и от единства к разнообразию) мог быть как-нибудь объяснен, он утверждал, что огонь сгущается и редеет, однако так, что процесс разрежения по отношению к природе огня является прямым и поступательным действием природы, между тем как процесс сгущения является своего рода возвратным действием, или результатом ее бездеятельности. Оба эти процесса, по его мнению, имеют место в силу судьбы и (в общем итоге) в определенные периоды, так что ныне существующий мир будет когда-нибудь разрушен огнем, а затем снова воссоздан, и эта смена и последовательность сгорания и возрождения непрерывны. Однако воспламенение и затухание должны, согласно Гераклиту (если внимательно изучить скудный материал, дошедший до нас об этом мыслителе и его взглядах), иметь место в различном порядке. Ибо что касается процесса воспламенения, то Гераклит не отклоняется от общего мнения, а именно что движение разрежения и уменьшения шло от земли к воде, от воды к воздуху, от воздуха к огню, а назад иначе: порядок был круговой. Так, он утверждал, что огонь, угасая, производит землю как свою золу и сажу, что последние производят и собирают влагу, от скопления которой происходит разлив воды, которая в свою очередь испускает и испаряет воздух; так что переход от огня к земле является внезапным, а не постепенным.