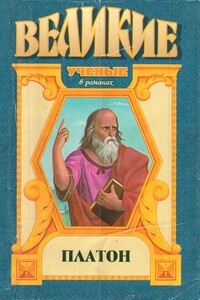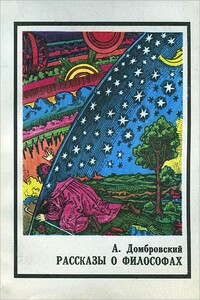На западной стороне агоры, у портика Зевса, Никанор тоже говорил о Сократе. И об архонте-басилевсе[13], который решал здесь свои дела. Но главным образом все же о Сократе, потому что философ любил бывать здесь и затевать споры с праздными афинянами. Здесь же, в одной из комнат портика, допрашивали Сократа, обвиненного в нечестии.
— Потом он принял яд в тюрьме, — кричал Никанор. — Вот она, эта тюрьма, за старым Булевтерием, — и он показал в сторону тюрьмы пальцем, а между тем другой рукой утирал слезы. — А вот здание суда, где его приговорили к смерти… И все плакали тогда. И Платон… А башмачник Симон…
У портика Пейсионакта Никанор снова вспомнил о Сократе. Но Аристотель уже не слушал его: он рассматривал картины Полигнота, изображавшие взятие Трои, битву Тесея с амазонками, переходил от одной картины к другой и думал о том, как, в сущности, прав поэт Пи́ндар; не только люди, но и целые поколения проходят, как неясные образы среди неожиданных сновидений.
Вот боги, вот герои, вот лавочники, вот рабы. Вот храмы, вот судилища, вот харчевня, вот игорные дома и ночлежки для нищих метеков[14]. Все это рядом, все это перемешано, как черепки в разгромленной мастерской горшечника. Законы Солона, законы Писистра́та, законы Перикла… Тысячи законов высечены на кирбах[15]. И сколько их еще будет? Сколько богов, столько и храмов; сколько законодателей, столько и законов; сколько людей, столько и мнений; сколько философов, столько и истин… Когда же будет один бог, один закон, одна истина?
Потом они поднялись на Акрополь и долго стояли у священных ступеней Парфенона.
— Вот образ порядка, создание чистого разума, — сказал Аристотель, продолжая думать о своем.
— Здесь хранятся все сокровища города, — не уставая говорил Никанор. — А там, — он указал на Эрехте́йон, — растет священная олива Афины, — прародительница всех олив, выросшая из камня.
— Где умер Фи́дий? — спросил Никанора Аристотель.
— О, Фидий! — воскликнул Никанор. — Платон, к которому ты пришел, называет Фидия демиургом, создателем и творцом.
— Где умер Фидий? — повторил свой вопрос Аристотель.
— Отсюда видна статуя Афины Парфе́нос, созданная вдохновенным Фидием, но не видна тюрьма, в которой он умер, не дождавшись суда. Его обвинили в хищении золота и слоновой кости, из которых он изваял богиню… Он принес Афинам вечную славу, Афины же хотели обречь его на вечный позор. Смерть Фидия и Сократа отольется кичливым афинянам слезами бесчестия…
— Ты о чем? — спросил Аристотель. Он взглянул на Никанора и не узнал его: лицо проксена было злым, глаза сощурены, губы плотно сжаты, как если бы Аристотель никогда не видел его восторженным и добродушным.
— Придет пора, — ответил Никанор, не глядя на Аристотеля, — многие поднимутся на Акрополь, чтобы увидеть Афины к лучах предзакатного солнца. — Он усмехнулся, и лицо его обрело прежнее выражение.
По мраморной широкой лестнице к Пропилеям все поднимались и поднимались люди. И по мере того, как все ниже опускалось солнце, все больше становилось людей в Верхнем Городе, они стояли в молчании и глядели на раскинувшиеся внизу площади и улицы Афин. Отсюда хорошо была видна агора, светящиеся розовым и лиловым колоннады нижних храмов и портиков, Одеон[16], пестрый изломанный ряд лавчонок в торговой части агоры, крыши жилых кварталов, почти черные в предзакатных косых лучах, В лиловой дымке одна вырисовывались башни Дипилона и Священных ворот. Обращенные к закату стены домов словно оторвались от земли, как вспугнутые чайки, и уже парили над черными и спи ими тенями.
Слава в Стагире — пустой звук, слава в Пелле — лишь отблеск славы, слава в Афинах — подлинная слава. Аристотель желал последней и стремился к ней.
— Афиняне горды, — рассказывал Аристотелю проксен. — И кажется, не в меру хвастливы. Для всех чужеземцев у нас одно имя — метек, себе же мы избираем имена, которые ставят нас рядом с богами. Мы полагаем, что вся земля — для нас. И что сделанное другими лишь тогда приобретает цену, когда достигает Афин. Страны, имеющие золото, богатеют, когда везут его в Афины. И те, что имеют медь, железо, лес, — тоже. И вся мудрость земли стекается в Афины — здесь кладезь мудрости, из которого черпают ее достойные.