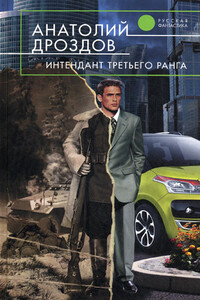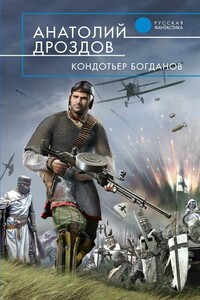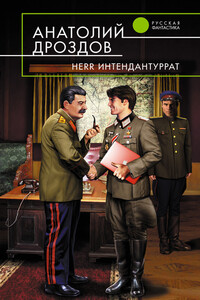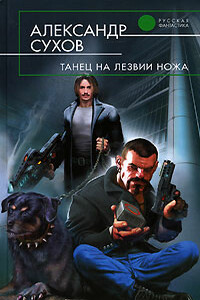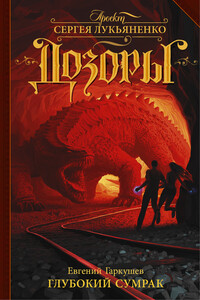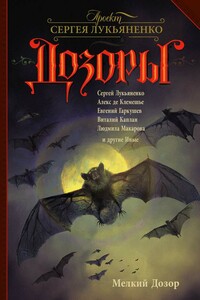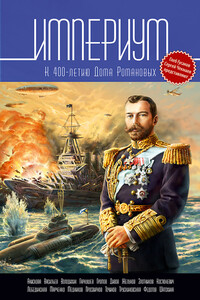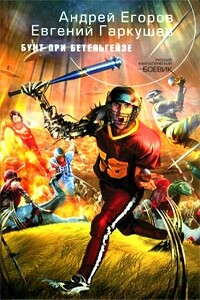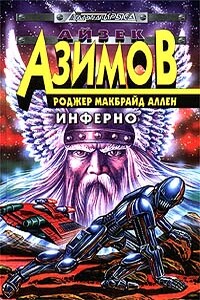Пусть я могу управлять только десятью процентами массы тела, способен синхронизировать движение только определенного процента клеток – этого достаточно для левитации и полета. Начальный импульс – словно у броуновской частицы: с одной стороны в нее ударяют сто молекул, с другой – сто десять. Но именно этот дополнительный импульс придает частице ускорение. Так и мои нервные импульсы позволяют сделать рывок.
На первом рывке, конечно, далеко не улетишь. Но организм человека пропитан электричеством. И клетки вполне могут генерировать электромагнитное поле нужного вектора и напряженности. Кинетический рывок, поддержка с помощью электромагнитного поля нужного вектора, поляризация некоторых клеток, вновь рывок… Я словно отталкиваюсь от электромагнитного поля Земли, цепляюсь за воздух. Не так легко. Учиться этому приходится не один десяток лет, нужна высочайшая концентрация внимания. И энергии требуется порядочно. Но для полета мне не нужны дополнительные приспособления. Я даже могу прихватить что-то с собой. Скажем, не очень тяжелую сумку.
Свежий ветер бил в лицо. Снизу на меня завороженно смотрела Даша. Да, милая, технологии, которые могут сделать человека подобным небожителю, при неправильном использовании разрушают его личность, превращают в животного. И самим небожителям живется не так легко и приятно, как кажется со стороны…
Много работы. Много ответственности. И почти никаких удовольствий. Точнее, удовольствие – только от хорошо выполненной работы…
Россия осталась позади. Я пролетел над зелеными полями, холмами, лесами, преодолел огромное водное пространство Каспийского моря, которое бороздили редкие утлые суденышки – и попал в страну жаркого лета.
Да, если в центре России сейчас все еще бывает снег – зимой, конечно, – то здесь глобальное потепление сделало климат еще жарче и, самое главное, влажнее. Выращивать полезные культуры в Средней Азии теперь можно практически в любое время года. Была бы вода.
Внизу проплывали желтые и зеленые поля, изборожденные крупными и мелкими арыками. Заброшенных деревень было меньше, народу в населенных пунктах и на полях – больше. Сейчас исламские государства стимулировали рождаемость всеми доступными средствами.
Если в Европе смертность стабильно превысила рождаемость уже в конце двадцатого века, то Азия продержалась дольше. Примерно до шестидесятых годов двадцать первого века. И лишь потом, с улучшением условий жизни, повышением уровня культуры и образования, с возросшим стремлением каждого человека получить больше именно для себя, рождаемость резко упала. Еще значительнее, чем в Европе и Америке. Многие азиаты не то чтобы хотели иметь одного ребенка, а вообще предпочитали не заводить семью. В моду вошли странные этические учения, призывающие отказаться от продолжения рода. Злые языки утверждают, что над их разработкой трудились лучшие психологи Запада. Ведь одинокие представители белой расы опасались затеряться среди сотен желтых и черных жителей Земли.
Следствием повышения уровня жизни и более внимательного отношения к каждому человеку явилось то, что, несмотря на относительное политическое спокойствие, отсутствие в конце двадцать первого века серьезных военных конфликтов, резкое снижение смертности от голода и болезней, население планеты в целом перестало расти, а потом начало стремительно уменьшаться.
Руководители стран Восточно-Азиатского альянса, доминировавших на планете в конце двадцать первого века (не в последнюю очередь благодаря превосходству в численности населения), раньше всех поняли, что при таком раскладе век их государств тоже будет недолог. И «закат Азии» наступит так же, как и закат Европы… А на смену придут Африка, Латинская Америка, может быть, Океания.
Удержаться на пике могущества трудно. И японцы, китайцы, корейцы приняли соответствующие законы, начали официально преследовать членов сект «воздерженцев» и «одиночек». Вся остальная Азия, а за ней и мусульманские страны, пошли по этому же пути.
В Средней Азии стимулировать рождаемость начали поздно, но это уже давало определенные результаты. Во всяком случае, почти вся земля обрабатывалась. Заброшенных полей осталось не очень много – примерно третья часть от общего числа пригодных для обработки земель.