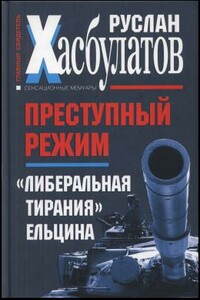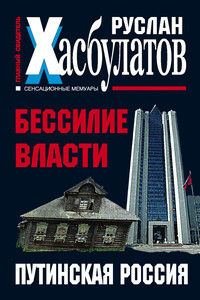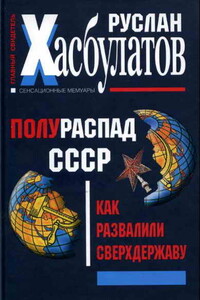Да и общество не прислушалось к моим предупреждениям. Это тоже факт.
...Многие наши депутаты, работники местных органов власти разделяли мою тревогу. Неожиданно быстро стали возникать в стране “комитеты в защиту Конституции и демократии”. Эту работу энергично повели депутаты Геннадий Саенко и Михаил Астафьев. Примкнул к этой работе Виктор Аксючиц со своей партией. Аналогичные комитеты возникли почти во всех регионах страны. Владимир Новиков, возглавивший новый отдел по работе с общественностью, активно включился в это серьезное и важное дело. Но, к сожалению, все они просто не успели организационно развернуть свою работу. Надо сказать и о том, что политические партии, их лидеры почему-то ревниво относились к “комитетам в защиту Конституции и демократии”, — вместо того, чтобы черпать в них опору для своей работы.
Совет при Председателе Верховного Совета по работе с творческой интеллигенцией
С весны 1993 года крайний радикализм Ельцина и его сподвижников стал вызывать огромную тревогу в рядах российской интеллигенции. Это особенно чувствовалось по ее реакции в провинции. Я много ездил по стране, встречался с самыми различными аудиториями — везде ко мне буквально прорывались работники творческой интеллигенции. Многие из них с восторгом приветствовали Ельцина и боролись за него, а теперь спрашивают у меня: “Что с ним случилось? Откуда эта неистовость якобинца? Призывы “разгромить Парламент!”, “разгромить советы!”, “я — богоравный!”, “надо мной — никого нет!”? “Откуда эти постоянные вихляния: сегодня говорит одно, завтра — другое, послезавтра — третье”; “он — что, думает, мы все такие глупые и ничего не понимаем?” “Вы — представитель высших слоев интеллигенции России в руководстве страны. Мы вам доверяли, когда вы призвали поддержать Ельцина, теперь — вы не нужны ему. Скорее — не нужна ему российская интеллигенция?” Такие мысли были общераспространенными.
На наши тревожные сигналы откликнулась очень большая часть российской интеллигенции, искренне озабоченной печальной судьбой продолжающейся драмы: падением духовности, снижением нравственных требований государства, деградацией культуры и искусства, разрушением науки и образования, проблемами молодежи. Несколько раз я встречался с ними в нашем парламентском центре. После одной из таких встреч — когда я отвечал на многочисленные вопросы, сами деятели культуры предложили создать Совет творческой интеллигенции при Председателе Верховного Совета. Летом, в середине июля, около 130 деятелей культуры, искусства, литературы собрались в Верховном Совете. Пригласили меня. Тогда был сформирован очень представительный состав этого Комитета. В нем согласились работать:
Василий Белов,
Юрий Бондарев,
Николай Бурляев,
Юрий Власов,
Олег Волков,
Геннадий Воронин, профессор,
Валерий Ганичев,
Игорь Горбачев,
Людмила Зайцева,
Николай Лебедев, композитор,
Сергей Михалков,
Ринат Мухамадиев, депутат Российской Федерации,
Анатолий Набатов,
Михаил Ножкин,
Вадим Кожинов,
Антонина Пикуль,
Петр Проскурин,
Тимур Пулатов,
Евгений Ташков,
Александр Шилов,
Александр Шахматов.
Дал согласие войти в состав Совета, по всеобщему согласию участников и по их инициативе, Митрополит Петербургский Иоанн.
Творческая интеллигенция — это очень сложная “материя” — прежде всего она нуждается в самовыражении. Конкретно это означает, что ее надо слушать. И не “ее”, — конкретно каждого человека, реального носителя духовных ценностей общества. А ведь именно в таком качестве каждый из них и выступает, что бы и кто бы о нем ни думал, не важно — плохое или хорошее. Каждый из них оказывает огромное влияние на окружающих, и скорее всего — на наиболее образованную часть нашей “публики”. Ведь театр, искусство, литература — все еще остаются предметами, необходимыми для довольно узкой прослойки элитарной интеллигенции. Это — горькое признание, но это так...
Мы много говорили в этот день. Выступал каждый, некоторые — по нескольку раз. Возможность выговориться — одна из сторон понятия “самовыражение”. Самовыражение в коридорах Власти — это отнюдь не формальность. Возможность такого самовыражения — если такая возможность появляется — придает уверенность участникам в стабильности проводимого курса этой Власти. Я считал, что такая практика должна иметь отнюдь не какой-то дежурный характер, а как своего рода врожденное свойство российского парламента, быть своего рода традицией. Наравне с той традицией, которую я стал укреплять, систематически встречаясь с коллегами-учеными...