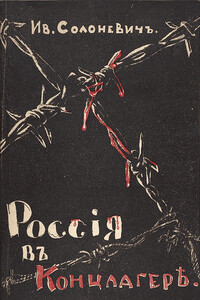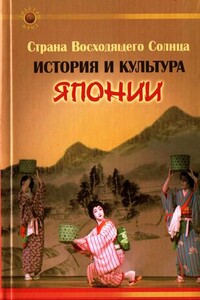Пессимисты называли Москву «городом-деревней». Оптимисты могли бы назвать ее городом-садом. Вне рамок главных улиц с их многоэтажными домами (этажа три-четыре) раскинуты сотни тысяч особняков или небольших домиков. В особенности на окраинах города. Я устремился туда. Методика моих поисков, как я установил позже, не годилась никуда. Нужно было бегать не по усадьбам, а по бюрократам. Но то, что я увидал, оказалось достаточно поучительным: крыши позаваливались, стены порастрескались, отовсюду неслась ужасающая вонь давно не чищенных уборных. От многих домов и домишек только руины. Я понял: тут хозяйствовали домкомы.
Нужно иметь ввиду, что домовой комиссар никогда не рождается в полном одиночестве: рядом с ним появляются на свет и другие. Так что пока наш домком бюрократствует над домом № 75, его собратья и близнецы так же заведуют: кровельным железом, краской, топливом, вывозкой мусора и всякими такими вещами. Над каждым из них возвышается какое-то собрание, комиссия, контроль и Бог знает что еще: крыша начинает ржаветь. Бюрократ пишет бумажку: выдать мне столько-то квадратных метров кровельного железа, столько-то краски и столько-то рабочих. Бумажки, очертив положенную им Господом Богом орбиту, попадают к другим бюрократам, которые как-то на них отвечают. Один пишет: краски в данное время на складе нет. Третий сообщает: в порядке очередности рабочая сила может быть предоставлена через икс дней. Приблизительно такую же орбиту описывают бумажки о топливе, мусоре, дезинфекции, починке канализации, вселении одних жильцов, выселении других, устройстве качелей для пролетариев дошкольного возраста и т. д. Словом, крыша начинает протекать, не считаясь с порядком очередности. И в то же самое время и по таким же точно соображениям начинают протекать всякие иные метафорические крыши – на фабрике красок. Потом трескается стена. Потом жильцам объявляется, что в плане энной пятилетки предусмотрена постройка новых домов, а из старого нужно выселяться, ибо он грозит обрушиться. Жильцам еще уцелевших домов предлагается «уплотниться» для размещения их злополучных спутников по бюрократической революции.
Как видите, очень просто. И как вы, может быть, согласитесь, – а как же логически может быть иначе?
Я не думаю, что в эти годы я отличался выдающимися аналитическими способностями. Мое отношение к большевикам было типичным для подавляющей – и неорганизованной – массы населения страны. Я, как и это большинство, считал, что к власти пришла сволочь. В качестве репортера я знал – и неверно оценивал – и еще один факт: это была платная сволочь. По моей репортерской профессии я знал о тех громадных суммах, которые большевики тратили на разложение русского флота в Первую мировую войну, знал, что эти суммы были получены от немцев. Теория военного предательства возникла поэтому более или менее автоматически. Социальный вопрос ни для меня, ни для большинства страны тогда никакой роли не играл. И для этого вопроса ни у кого из нас, большинства страны, не было никаких предпосылок.
Я помню: идя к захвату власти, Ленин не требовал ничего особенного. В программе стояло: национализация промышленности, банков и железных дорог; большую часть этой программы проводило и царское правительство. Ленин требовал раздела земли между крестьянами. Царское правительство в течение полустолетия до появления на исторической арене того же Ленина проводило ту же политику. Правда, оно действовало экономическими методами, и крестьяне получили дворянскую землю за плату. Ленин обещал бесплатный раздел. Но мне было решительно безразлично, получит ли дворянство за остатки своих латифундий еще один миллиард на пропой остатков своей души или не получит. И я, более или менее средний молодой человек России, нес свою шкуру на алтарь гражданской войны вовсе не из-за банков, железных, дорог, акций или платного или бесплатного раздела земли. Не из-за этого несли свою шкуру и другие юноши России. Ни колхозов, ни концентрационных лагерей, ни голода, ни вообще всего того, что совершается в России сейчас, мне еще видно не было. Пророчества Герцена, Достоевского, Толстого, Розанова, Лермонтова, Волошина и других, которые я знал и тогда, совершенно не приходили в голову, скользили мимо внимания. Я, в отличие от большинства русской интеллигентной молодежи, действительно питал непреодолимое отвращение ко всякому социализму, но, во-первых, против большевизма подняла свои штыки и та интеллигентная молодежь, которая еще вчера была социалистической, и та рабочая молодежь, которая еще и в годы гражданской войны считала себя социалистической. Потом я почти присутствовал при массовых расстрелах социалистической молодежи в большевистских тюрьмах Одессы. Я ненавижу социализм, но это было чересчур. Я не питаю решительно никаких симпатий к нелепому племени украинских сепаратистов, но, сидя в одесской тюрьме и ожидая расстрела, я в щелку тюремных ворот смотрел на целую колонну сепаратистской молодежи, которой солдаты ВЧК (позднейшее ОГПУ, потом НКВД, теперь МВД) проволокой связывали за спиной руки перед отправкой этих двух-трех сотен юношей и девушек, почти мальчиков и девочек, на расстрел. Царское правительство боролось и с социалистами, и с сепаратистами, но все-таки не