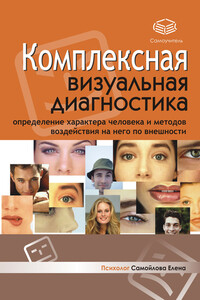“Единственно разумная вещь, — писал Флобер Жорж Санд 29 апреля 1871 г., — верхушечная власть, народ — это всегда второстепенная фигура”.
Каково! А Парижская коммуна с ее дерзкой претензией изменить мир, с провозглашением будущего, которое воспевается в тот момент, когда Франция на коленях, территория отрезана, армия потерпела поражение. Коммуна наглядно воплощает связь, существующую между поражением и народным возмущением, падением государственной власти и бунтом граждан. Интеллигенция вибрировала в унисон с буржуазией — разве это не ее сыны? — перед фактом национального унижения. В то же время она подняла голос против опасности, исходящей извне — от постоянно враждебной Германии — и изнутри — от вечного врага, Французской революции, не завершенной даже почти век спустя, но все же побежденной.
“Так, французская история XIX века в целом, — пишет Франсуа Фюре, — была историей борьбы между Революцией и Реставрацией, вехи которой 1815, 1830, 1848, 1851, 1870 гг., Коммуна, 16 мая 1977 г.”.
Достаточно почитать Тэна и Ренана, чтобы уловить всю степень тревоги, пробужденной этими двумя последними эпизодами, и тот отклик, который она получила в общественной мысли своего времени.
С этой тревогой соизмеряют общественный резонанс, видя в ней новый смысл, придаваемый общественным движениям и простонародным классам. Романы Золя свидетельствуют об этом, как и исторические исследования. Эти классы каждый увидел в действии. Каждый почувствовал их значимость или исходящую от них угрозу соответственно своим политическим убеждениям. Тревога? Лучше было бы сказать страх, внушенный “подозрительной и колеблющейся популяцией”, “антисоциальным сбродом”, согласно употреблявшимся тогда выражениям. Чтобы преодолеть эту тревогу, нужно было найти объяснение событиям и ещё, быть может, отыскать ключ к современной эпохе. Все во Франции вглядывались в социальную ситуацию и видели нестабильность власти. Попытки реставрации, возвращения старого режима с его монархией, его церковью не давали желаемых результатов. Имели успех теории, которые осуждали современные убеждения — стандарты научного знания, всеобщее избирательное право, высший принцип равенства и т. п. — и клеймили позором тех, кто их распространял. Это не мешало партиям быстро множиться, буржуазии — цепляться за командные посты, а революционным идеям — прокладывать себе путь. Требовалось какое-то драконовское средство, доводящее все до крайнего выражения дерзкая идея для прочистки мозгов. Идея простая и ясная, мобилизующая дух. Нужно было дать отпор социализму, показать, что революция не неизбежна и что Франция могла собраться с силами и сама определить собственную судьбу. Такая программа могла бы показаться слишком честолюбивой, но ее смысл был понятен каждому и каждый сознавал необходимость нового решения.
III
Итак, Ле Бон появился. Этот неудачник от науки, этот трибун без трибуны понимал, что происходит. Он был одержим идеей лечить болезни общества, она его просто преследовала. Отойдя от своих медицинских исследований, он сошелся со многими пишущими учеными, государственными деятелями и философами, которых занимали те же вопросы. Жаждая сделать карьеру — быть принятым в Академию или получить место в университете, — он берется за совершенно разноплановые исследования: от физики до антропологии, от биологии до психологии — науки, едва зародившейся, и оказывается среди первых, кто предчувствовал ее значение. Но, несмотря на широкий круг знакомств и на то упорство, с которым он преследовал свою цель, его большие амбиции не были удовлетворены. Двери университета, как и Академии наук, оставались для него напрочь закрытыми.
И он неутомимо работает вне сферы официальной науки, по сути дела как аутсайдер. Он ворочает знаниями, как другие деньгами. Сооружает один научный проект за другим, хотя никакой заметный результат не увенчивает этих усилий. Но этот исследователь-дилетант, этот популяризатор науки совершенствует свои способности синтезировать. Он обучается искусству кратких формулировок, обретает шестое чувство журналиста на факты и идеи, которые в данный момент возбуждают читающую публику. Сопротивление, с которым он сталкивается со стороны университетских кругов, все сильнее подталкивает его к поискам успеха на политическом и общественном поприщах. В течение этих лет, написав десятки трудов, он варит в одной и той же посудине биологические, антропологические и психологические теории. Он делает набросок психологии народов и рас, вдохновленный одновременно Тэном и Гобино. По мнению историков, вклад Ле Бона в эту отрасль психологии достаточно значителен для того, чтобы его имя фигурировало в почетных списках — не слишком славных, по правде говоря, — предтечей расизма в Европе.