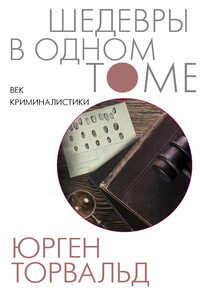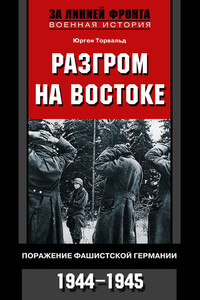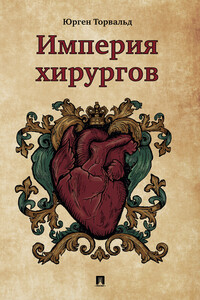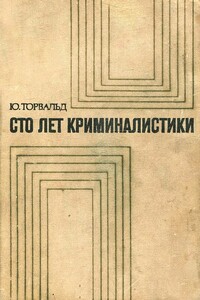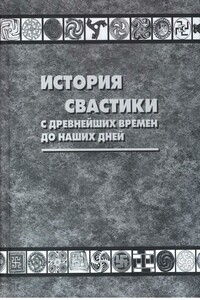Медики были наслышаны, а практикующие хирурги знали и не понаслышке, что карболовая кислота оставляет ожоги на руках врачей, что уже не говорило в пользу метода. Аргументом «за» не был и тот не менее важный факт, что распыление едкой жидкости с последующим попаданием «шпрея» в дыхательные пути вызывало у врачей отравления и почечные расстройства. Под влиянием этих факторов возникла настоящая линия сопротивления, к которой с удовольствием примыкали новые и новые медики. Все они имели лишь одно намерение: уклониться от использования Листерового метода лечения ран, оправдываясь его сложностью. Однако в несметном количестве больниц лечение карболовой кислотой прижилось-таки, во многом благодаря смерти хирургов-старожилов, зачастую их возглавлявших. Прочие хирурги капитулировали, когда пациенты стали сторониться пропахших разложением лазаретов.
Когда Хальстед вернулся на родину и возобновил работу в Нью-Йорке, в Бельвью-Хоспитал, он понял, что из его затеи внедрить антисептические операционные практики в амфитеатрах больницы ничего не выйдет. Поэтому он был вынужден разбить «стерильную палатку» в саду при больнице и проводить все свои операции там. В Пресвитерианской больнице дело дошло до открытого противостояния и даже вражды между Хальстедом и местным хирургом Бриддоном, поскольку Хальстед прямо в операционной, на глазах у студентов был вынужден потребовать, чтобы тот вымыл в конце концов руки.
Все это длилось вплоть до середины девяностых годов XIX века, а после листеровские методы лечения ран все-таки покорили мир медицины. И как часто случается в истории науки, новообращенные в единственную истинную медицинскую религию пошли значительно дальше мастера, так поздно получившего заслуженное признание.
Теперь не только инструменты укладывали в карболовый раствор, не только вымачивали в нем шовный материал, не только пропитывали карболкой повязки – в операционных повис густой туман из карболового «шпрея», какой можно было видеть там, где оперировал Листер; раны и даже целые брюшные полости заливались литрами разбавленной карболовой кислоты. Медицину наводнил целый поток альтернативных антисептических средств, центральное место среди которых занимал сублимат. Победное шествие всего листеровского захлебнулось в волне новых изобретений.
Но пока то запоздалое победное шествие было в самом разгаре, пока хирурги по всему миру все еще праздновали вместе с Листером его триумф, а где-то триумф Листеровых методов обернулся непредвиденными опасными последствиями, так как многие медики с избыточным тщанием подошли к воплощению заветов ученого, в мире науки уже назревало новое течение. Впервые оно дало о себе знать еще в доме Фолькмана в беседе с его молодым гостем. Тогда мне стало ясно, что новые веяния исходили по большей части от немецких врачей, а эпицентром фактически являлась клиника профессора Бергмана.
Как известно, Листер утверждал, что микробы – возбудители раневых инфекций попадают в раны, на руки и инструменты большей частью из воздуха. Именно поэтому тяжелые облака его карболового «шпрея» и нависали над операционным столом. Ассистенты Бергмана Ланге и Шиммельбуш как-то воспользовались придуманными Кохом средствами и методами, чтобы исследовать воздух на предмет содержания в нем микробов. Результаты исследования явились для них огромным потрясением. В воздухе не обнаружилось практически ни одного возбудителя раневых инфекций. Удалось разоблачить лишь безобидные плесневые и дрожжевые грибы, а также грибки-шизомицеты. За полчаса наблюдений на поверхность раны площадью сто квадратных сантиметров осело не более 70 микробов, по большей части совершенно безобидных. И напротив, в найденной на полу пыли, в одной-единственной капле секрета из гноящейся раны, на одном-единственном хирургическом инструменте, который не был вымыт, побывав в инфицированной ране, или на невымытых руках роились сотни тысяч, миллионы бактерий, в основном опасных и чрезвычайно опасных. Микробы – возбудители раневых инфекций едва ли могли передаваться по воздуху. Очевидно, они проникали в раны при непосредственном контакте с грязью, инструментами и руками. Земмельвейс, об опытах которого, казалось, все давно позабыли, также был прав, говоря о «контактной инфекции».