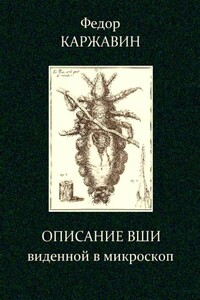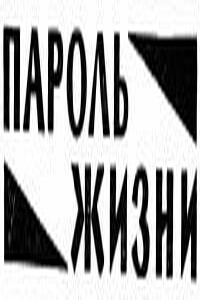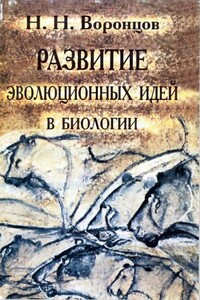Здесь узнается подход Маленького принца из Сент-Экзюпери — "самое главное глазами не увидишь". Далее в диалоге Б. С. Кузин высказывает парадоксальное и потому интересное для историков науки предположение, что, "быть может, и науку, и искусство следует считать не стройным зданием, воздвигнутым дальше поколениями, а складом автобиографий ученых и художников" (цит. по Баранцев, 1989, Любищев, 2000).
В замечательной речи "Генетический анализ психических особенностей человека", произнесенной на заседании Русского евгенического общества в январе 1923 г., Н. К. Кольцов, намечая программу генетического анализа нормальных черт психики, говорит о своем несогласии в этой области с подходом И. П. Павлова. Великий физиолог стремился и верил в возможность выразить все явления в области психики человека на языке физиологии высшей нервной деятельности. Поэтому в его лаборатории было введено гонение на употребление психологических терминов: психология, память, желание, эмоция, мысль. "Это, конечно, хороший педагогический прием, но не более, — парировал Н. К. Кольцов, — и то, что допустимо в лаборатории во время работы, конечно, не может быть проведено в жизнь вообще" (Кольцов, 1923, с. 355). Слепое подражание и поклонение И. П. Павлову привело в дальнейшем в России к замедлению исследований в области этологии, эволюционных аспектов поведения, когда поведение изучается не в лабораторных, а в естественных условиях, и павловский сугубо физиологический стиль и терминология не работают.
В 1965 г. Андрэ Львов и Франсуа Жакоб вместе с Жаком Моно разделили Нобелевскую премию за открытие и исследование лизогении и механизмов регуляции действия генов. Франсуа Жакоб оставил замечательное описание различия научных стилей у своих коллег и соавторов. Научный стиль его соавтора и неизменного оппонента Жака Моно типичен для позитивизма 30-х годов, с его гносеологическим детерминизмом и неизменной верой в строгую логичность и объективность научной деятельности. "В одном важном пункте мы расходились с Жаком. Различие в личностях, в нашем отношении к природе. Жак всегда хотел быть логическим, даже пуритански логическим. Меня же он считал существом в основном интуитивным. Это не расстраивало бы меня, если бы он не приправлял свои реплики иронией и даже оттенком презрения. Но ему было недостаточно быть самому логическим. Природа тоже должна быть логической и следовать строгим правилам. Найдя то, что Ж. Моно считал "решением " некоторой "проблемы", он не хотел отклоняться от этого принципа и следовал ему до конца. В каждом случае. В каждой ситуации. Для каждого живого организма. В конечном счете для Жака естественный отбор выступал как скульптор каждого организма, каждой клетки, каждой молекулы вплоть до ее мельчайших деталей. Вплоть до достижения такого совершенства, которое другие приписывали божественному творению… Отсюда была его склонность к единственным решениям. Ив этом отношении Жак был тверд" (Jacob, 1991, р. 320).
Забегая вперед заметим, что стремление навязывать природе свои законы, свою логику исследования подвело Жака Моно. Именно ему принадлежит столь популярная в 60-е годы максима: "Что верно для бактерии, то верно для слона". В 70-е годы, когда молекулярные исследования генома поднялись на новую ступень, максиму Ж. Моно следовало бы изменить так: "что верно для бактерии — не верно даже для дрожжей".
Различие в склонностях и стилях двух ученых в их научном дуэте было взаимодополнительным и плодотворным. Научный стиль своего учителя Андрэ Львова Франсуа Жакоб так описал в кратком некрологе: "В мансарде института Пастера, где работал Львов, был непрекращающийся поток иностранных посетителей и студентов, Андрэ генерировал исключительную атмосферу, в которой смешивались энтузиазм, ясность мышления, нонконформизм, юмор и дружелюбие… Он творил более интуицией, нежели методом и относился к науке как к искусству. Действительно, этот большой ученый был прежде всего художником" (Jacob, 1994).
Стиль в науке столь же закономерен, как и в искусстве, ибо акт познания неотделим от личности, от ее системы ценностей и психологических установок. Особенно это относится к биологии. Ибо при анализе сложных систем, каковыми несомненно являются любая клетка, популяция, сообщество, "фактически невозможно построить замкнутую логическую схему, которую можно однозначно и убедительно сопоставить с экспериментальными данными. Здесь оказывается незаменимым личный опыт и взращенная на нем интуиция исследователя, использование удачных образцов решения сходных задач" (Шрейдер, 1986). История генетики и эволюционной биологии многократно подтверждает этот вывод современных философов и методологов науки.