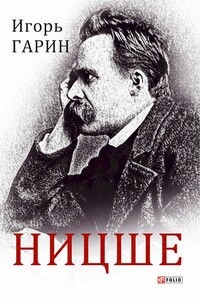Она обладала особым личным обаянием, и, когда хотела привлечь кого-то на свою сторону, устоять было невозможно, и критики, которые были знакомы с ней и видели ее картины, принимали на веру ее творчество, хотя и не понимали его, — настолько они восхищались ею как человеком и были уверены в ее непогрешимости. Кроме того, она открыла много верных и ценных истин о ритме и повторах и очень интересно говорила на эти темы.
Однако она не любила править рукописи и работать над тем, чтобы сделать их читабельными, хотя для того, чтобы о ней говорили, ей необходимо было печататься; особенно это касалось невероятно длинной книги, озаглавленной "Становление американцев".
За три-четыре года нашей дружбы я не помню, чтобы Гертруда Стайн хоть раз хорошо отозвалась о каком-нибудь писателе, кроме тех, кто хвалил ее произведения или сделал что-нибудь полезное для ее карьеры. Исключение составляли Рональд Фэрбенк и позже Скотт Фицджеральд. Когда я познакомился с ней, она не говорила о Шервуде Андерсоне как о писателе, но зато превозносила его как человека, и особенно его прекрасные итальянские глаза, большие и бархатные, его доброту и обаяние.
Она не желала говорить о творчестве Андерсона, как не желала говорить и о Джойсе. Стоило дважды упомянуть Джойса, и вас уже никогда больше не приглашали в этот дом.
(Надо признать, что невосприимчивость Гертруды Стайн и Джеймса Джойса друг к другу была обоюдной, напоминающей отношения Зинаиды Гиппиус с Андреем Белым. Гертруде Стайн казалось, что Джойс идет в литературе по ее стопам, что было явным преувеличением. Джойса шокировала стадность и крикливость парижских авангардистов).
Рассказы Андерсона были слишком хороши, чтобы служить темой для приятной беседы. Я мог бы сказать мисс Стайн, что его романы на редкость плохи, но и это было недопустимо, так как означало бы, что я стал критиковать одного из ее наиболее преданных сторонников. Когда он написал роман, в конце концов получивший название "Темный смех", настолько плохой, глупый и надуманный, что я не удержался и написал на него пародию*, мисс Стайн не на шутку рассердилась. Я позволил себе напасть на человека, принадлежащего к ее свите. Прежде она несердилась. И сама начала расточать похвалы Шервуду, когда его писательская репутация потерпела полный крах.
* Речь идет о "Весенних ручьях" Э.Хемингуэя.
Она рассердилась на Эзру Паунда за то, что он слишком поспешно сел на маленький, хрупкий и, наверно, довольно неудобный стул (возможно, даже нарочно ему подставленный) и тот не то треснул, не то рассыпался. А то, что он был большой поэт, мягкий и благородный человек и, несомненно, сумел бы усидеть на обыкновенном стуле, во внимание принято не было. Причины ее неприязни к Эзре, излагавшиеся с великим и злобным искусством, были придуманы много лет спустя.
Гертруда Стайн действительно не жаловала иных своих современников, в частности Д. Г. Лоуренса, действительно порой была несправедлива (о том же Лоуренсе говорила: "Жалок и нелеп. И пишет, как больной"), однако у нее, пристрастной, как большинство женщин, был виртуозный художественный вкус и еще более развитый нюх на все новое, неизбитое.
Уже в студенческой статье, относящейся к временам ученичества у Уильяма Джеймса, Г. Стайн начала литературно-психологические эксперименты с автоматическим письмом, из которых затем возникла новая теория прозы. Это был тот скандал, та проба культуры, с помощью которых искусство движется дальше и дальше. Мастер словесной аранжировки, она довела герметизм до высших абстракций живописи словом. Могло показаться, что порой из-под ее пера выходил полнейший бред, но это было не так: читателя томило чувство, что, будь у него ключ, многое можно расшифровать.
Заботливость, с которой лжив дождь, и лжива зелень, и лжива белизна; заботливость, с которой здесь невероятная справедливость и сходство, всё это создает прекрасную спаржу и фонтан.
В ее виртуозности слишком много того технического умения, которым символизируется самый страшный вид отчуждения. И само это творчество отчужденность: отчужденность-вызов, отчуженность-упрек, отчужденность-плач.