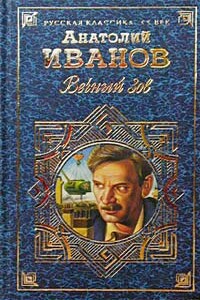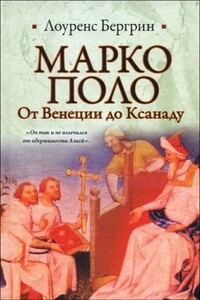Ничего не могут поделать с Громотушкой даже самые лютые холода, только гуще, тяжелее туман над ручьем, только обильнее куржак на деревьях - и все.
Димка поплескал в конопатое лицо, опять поглядел через плетень налево, потом направо. "Ну, дрыхнут..."
В это время в доме Лукерьи Кашкаровой скрипнула дверь, появилась сама Кашкариха, как звали ее все соседи, торопливо побежала в стайку.
Над Звенигорой, видимо, показался краешек солнца, потому что туман над деревней зарозовел, заискрился и сквозь него начали проглядывать очертания пожарной каланчи. И сразу же стало видно, как покрасневшие туманные лоскутья ползают между тополиными ветками, облизывая каждый сучок.
В Кашкарихиной стайке ошалело закудахтали куры. Потом оттуда вышла старуха. В одной руке у нее был кухонный ножик, в другой - только что зарубленная курица.
- Бабушка Лукерья... - сказал Димка, подходя к плетню. - Чо Витька там? Мы порыбалить сговорились...
- Кака рыбалка, кака рыбалка? - торопливо и как-то испуганно закричала Кашкариха. - Не пойдет седни Витька! Сорванцы, прости ты, господи...
И скрылась в сенях. Димка слышал, как загремела дверная задвижка. "От пошехонцы, - буркнул он про себя. - Днем на задвижке... Что это они вздумали?"
Сквозь ветви тополей, раздирая космы тумана, прорывались теперь бледно-желтые солнечные полосы. Полос было много - и широких, как плахи, и тоненьких, как струнки, меж них по-прежнему крутились, болтались туманные лохмотья, отчего казалось, что солнечные полосы покачиваются, деловито щупают землю.
Неподалеку на площади, возле большого деревянного дома на каменном фундаменте, в котором помещался райком партии, заговорило радио.
- Внимание, говорит Москва, - звучно сказал диктор на всю деревню. - С добрым утром, товарищи. Сегодня воскресенье, двадцать второе июня...
"А какое в Москве утро? В Москве еще три часа ночи. Еще только-только начинает зориться", - подумал Димка.
Из репродуктора полилась песня, хорошая песня, которую Димка всегда любил слушать:
Утро красит нежным светом
Стены древнего Кремля...
Димка слушал и, хотя в далекой отсюда Москве была еще ночь, представлял, как солнце раскрашивает кирпичные стены Кремля, который он видел только на картинках да в кино.
В огороде появился старший брат Семен, прищурился на солнце, с хрустом потянулся. Вдруг он опрокинулся, встал на руки и пошел к Громотушке. Минуя морковную грядку, он легко спружинил на руках, зубами вырвал морковку, еще небольшую и бледную, и так, в зубах, донес ее до ручья.
Это был обычный Семкин номер. Он занимался в кружке самбистов и умел еще и не такое. Димка, смертельно завидуя в душе старшему брату, равнодушно отвернулся.
Прежде чем умыться, Семен пополоскал морковку в ручье и с хрустом откусил сразу половину, подмигнул Димке:
- Ну, как?
- Чего? На руках-то? Подумаешь...
- Ишь ты, пшено... А ну-ка?
- Да запросто! - в запале выкрикнул Димка и попытался встать на руки. "Шмякнусь на спину, как пить дать... - пронеслось у него в голове. - Картошку помну... Мать задаст..."
Едва он так подумал, как откуда-то обрушился на него голос матери:
- Помни, помни картошку мне! Ди-имка!
И плашмя, вытянувшись во весь рост, спиной шлепнулся в картофельную ботву.
Мать вскрикнула. Димка увидел ее испуганные глаза над своим лицом, вскочил.
- Ну?! Ну?.. - дважды дернула его за руку мать. И повернулась к Семену: Чему ты ребенка учишь? А ежели он руки али шею сломает?
Увидев, что мать отвернулась, Димка торопливо убежал с огорода.
* * * *
За столом у Савельевых всегда царило молчание. Глава семьи Федор Силантьевич не терпел за едой разговоров.
Но сегодня священный порядок нарушал самый младший из Савельевых десятилетний Андрейка. Хлебнув две-три ложки, он шмыгал носом и заводил одно и то же:
- Ма-ам... Я пойду с ними рыбалить?..
Жена Савельева, Анна Михайловна, молчит, будто не слышит умоляющего голоса сына.
- Да пустите вы его, не потеряем, - в конце концов сказал Семен.
Отец бросил ложку, сердито вытер черные, мокрые от лапши усы.
- Вот что, Семен, я скажу... В твои, считай, годы я уж эскадроном командовал, белякам головы рубил, - и он показал почему-то за спину, на стенку, где висел увеличенный со старой фотографии портрет его отца, Силантия Савельева. - А ты хоть и два года как тракторист, все в ребячьих пастухах состоишь.