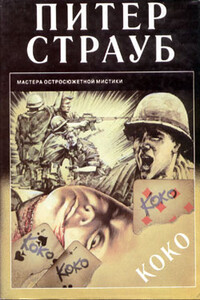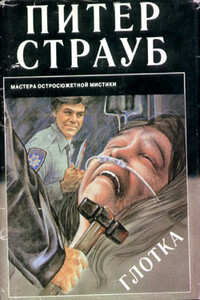«Согласен?» — прогудел Дом.
«Согласен», — ответил Харви.
«Итак, говори, — продолжал Дом, — чего же ты хочешь?»
Харви посмотрел на крошечных животных вокруг ковчега и на цветы, и на еду, выползавшую через дверь, подобно блевоте. Что же он должен потребовать? Одно, последнее требование, чтобы сломать Худу хребет. Но что? Что?
Порыв ледяного ветра прилетел со стороны озера. Осень была неподалеку. Пора умирания.
«Знаю!» — внезапно воскликнул он.
«Скажи мне, — ответил Дом. — Скажи, и закончим эту игру раз и навсегда. Я хочу, чтобы твоя смышленая душа была под моим крылом, маленький вор».
«И я хочу... Хочу разные времена года, — сказал Харви. — Все времена года одновременно».
«Одновременно?»
«Да, одновременно!»
«Это бессмысленно!»
«Это то, чего я хочу».
«Глупость! Идиотизм!»
«Но это то, чего я хочу! Ты говорил еще об одном желании. Вот оно!»
«Что же, ладно, — сказал Дом. — Я даю это тебе. И когда ты это получишь, маленький вор, твоя душа будет моей!»
Худ не терял больше времени. Как только он сделал Харви свое последнее предложение, душистый ветер стал порывистым, унес облака ягнячьей шерсти, проплывавшие по летнему небу. Их место занял джаггернаут: дождевая туча величиной с гору, которая нависла над Домом как тень, отбрасываемая на Небеса.
В ее темной сердцевине была не просто молния. В ней были светлые дожди, которые приходят рано утром, чтобы уговорить проклюнуться семена еще одной весны, в ней были нависающие осенние туманы и кружащиеся снега, что приносили в Дом так много полуночных Рождеств. Теперь все они явились одновременно — дожди, снега и туманы — в виде леденящего дождя со снегом, почти скрывшего солнце. Он бы погубил холодом цветы на холме, если бы ветер не достиг их первым и не стал обрывать с такой жестокостью, что каждый лепесток или лист взлетал в воздух.
Находясь между благоуханным приливом и нависшей пеленой льда и туч, Харви едва был в силах стоять прямо. Но он широко расставил ноги и сопротивлялся любому удару или порыву, решив не уходить в укрытие. Возможно, перед ним разыгрывался последний спектакль, на котором он мог присутствовать как свободная душа. Да, как живая душа. И Харви намеревался насладиться им.
Это достойное зрелище, битва, подобную которой планета никогда не видела.
Слева от него лучи солнца пронизывали облака во имя Лета, и только для того, чтобы быть смазанными туманами Осени, а справа от него Весна выстраивала свои легионы ветвей, затем он видел почки, убитые морозами Зимы до того, как показались листья.
Атака за атакой приходили и были отбиты, побудка и отбой звучали сотни раз, но ни одно время года не могло одержать верх. Скоро стало уже невозможно отличить поражение от победы. Сборы и ложные атаки, отвлекающие маневры и окружения стали единым целым. Снега во время своего падения превращались в дожди, дожди перекипали в пар, новые побеги с трудом пробивались сквозь гниль своих собратьев.
И где-то посреди хаоса сила, которая вызвала все это, в ярости подняла голос, требуя, чтобы это прекратилось.
«Довольно! — вопил Худ-Дом. — Довольно!»
Но его голос — который некогда имел столь ужасную власть — стал слабым. Его приказы проходили незамеченными, а если и замечались, то их не выполняли.
На стены, которые стали пошатываться, когда уменьшилось могущество Худа, набрасывался разъяренный ветер. Каминные трубы были изуродованы и повалены, по громоотводам молния ударила столько раз, что они расплавились и упали сквозь крышу с ободранной черепицей пылающим дождем, поджигая доски, перила и мебель — любой предмет, оказавшийся поблизости. Крыльцо, иссеченное градом, было разбито в щепки. Лестница, раскачанная у основания волной прихлынувшей грязи, рухнула словно карточный домик.
Сощурив глаза перед лицом бури, Харви был всему этому свидетелем и он был в восторге. Он пришел в Дом, надеясь похитить обратно годы, которые Худ выманил у него, но никогда бы он не осмелился поверить, что сможет повергнуть все сооружение. Тем не менее оно падало прямо на глазах. Каким бы сильным ни был шум ветра и грома, он не мог заглушить вопль Дома, пока тот погибал и превращался в пыль. Каждый гвоздь, каждый брус и кирпич, казалось, одновременно пронзительно вскрикнули от боли, которую могло утолить только забвение.