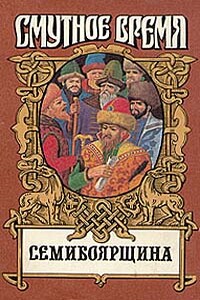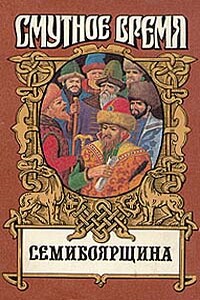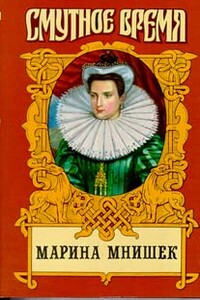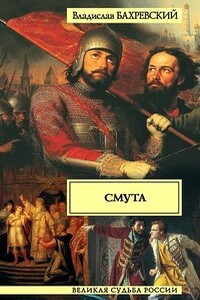В то время как он уже третий раз проходил мимо заветной двери, не смея оглянуться и заранее краснея при мысли, что кто-то за ним наблюдает, дверь вдруг скрипнула и приотворилась и курчавая головка знакомой ему белокурой красотки высунулась из-за нее по самые плечи. Красотка улыбалась, выказывая два ряда зубов, ровных и белых, как жемчуг.
— Пане ласковый! — зазвучал нежно и мягко ее голос за спиною Ивана Михайловича, который, быстро обернувшись, встал перед дверью как вкопанный.
— Пане ласковый! — продолжала красотка, вкрадчиво улыбаясь и слегка прищуривая глазки. — Как тебя зовут и кто ты таков?
Она говорила по-польски, довольно ловко вплетая в свою речь русские слова, которые произносила как-то особенно смешно и неуклюже.
— Зовут меня Иваном, по отцу Михайловичем, а прислан я сюда приставом всех вас стеречь…
— Такой молодой, и приставом!.. И меня тоже стеречь будешь? — плутовато спросила красотка.
— И тебя тоже! — краснея еще больше, ответил Иван Михайлович.
— Ну, вот забавно! Не позволим! — шутливо проговорила она, притопывая ножкой.
— А все стеречь будем, коли приказано! — нашелся ей ответить юноша, несколько ободренный веселостью своей собеседницы.
— Панна Зося, панна Зося! — крикнул кто-то строго за дверью, и красотка поспешно захлопнула ее и что-то громко сказала по-польски.
«А! Так вот ее как — Зосей зовут!» — подумал Иван Михайлович, поспешно отходя к своей лавочке у дверей приемной.
В тот же день под вечер панна Зося еще раз улучила минуточку и выглянула в сени.
— Пане Иване, — окликнула она молодого пристава вполголоса, — по-польски разумеешь?
— Понимаю немного — недаром в Смоленске на вашем рубеже жил.
— А сам не говоришь?
— Не говорю.
— А хочешь, я научу тебя?.. Только ты будь нам добрым «стружем» (сторожем), и мне, и панне царевой, и пану воеводе.
— Зачем мне ваша польская речь? Наша православная лучше вашей… Лучше ты сама, панна Зося, учись нашей речи…
— Пожалуй, и я по-вашему буду учиться… Только ты будь добрый, не строгий, и если я что-нибудь попрошу тебя, то уж непременно исполни!
И она, прячась за дверью, с кокетливой улыбкой заглядывала ему в очи.
Иван Михайлович готов был прямо брякнуть ей в ответ: «Приказывай, голубка, на все для тебя готов!» Но вместо этой безумной речи сказал только отрывисто:
— Мало ли ты чего запросишь! Я тоже — царский слуга и человек подначальный.
И он поспешно отступил от двери, заслышав сзади себя чьи-то шаги в сенях.
Но Зося, перекинувшаяся с ним немногими ласковыми речами, уже засела у него в сердце и не выходила из головы.
«Словно жемчужинка окатная, куда хошь поверни — везде хороша! — думал юноша, вглядываясь в вечерний сумрак, окутывавший углы сеней легкой мглою. — Красавица писаная! Вот так и стоит передо мной как наяву! Наважденье сущее! Как для нее не сделать?.. Что ни попроси…»
На другой день Зося уже кивнула «пану Ивану» головкой, как старая знакомая, и раза три-четыре высовывалась из двери, чтобы поболтать с молодым приставом на своем смешанном русско-польском языке.
— Я пана сразу признала! — сказала она наконец Ивану Михайловичу. — Только посмотрела в щелочку двери, кто тут по коридору ходит, — и сейчас признала, что я уж вас видела.
— Где же меня панна Зося видела? — с некоторым смущением спросил юноша.
— Там, на улице, перед нашей старой тюрьмой… Пане Иване забежал против ворот и все на меня смотрел, и когда нас посадили и повезли — все за нами шел и все на меня глядел… Я так смеялась с подругами: глаза большие, большие сделал — и все глядел…
Иван Михайлович покраснел как маков цвет и не знал, что сказать.
— А я знаю, почему так пане Иване на меня глядел? — плутовато заметила Зося.
— Ну… скажи… коли знаешь! — с некоторой досадой отозвался Иван Михайлович.
— Смотрел на меня потому, что не знал, куда глаза девать! — рассмеялась Зося в глаза молодому приставу и захлопнула дверь.
Иван Михайлович круто отвернулся от двери и прошептал про себя:
— Бес девка! От нее не скроешься, не ухоронишься! Знает сама — какова… Наваждение сущее, прости Господи! Буду просить, чтобы Алексей Степанович взял меня отсюда… А не то…