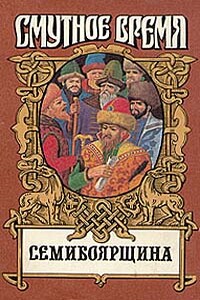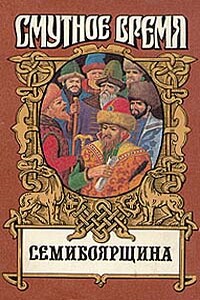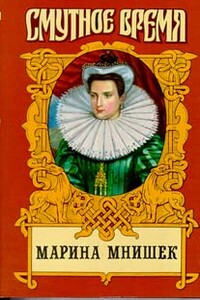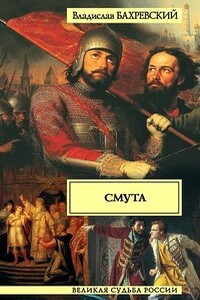Прямая как стрела дорога светилась среди пирамидальных, очень высоких тополей. Далеко Василий Иванович не видел…
— Поглядим, сколь много у нас свободы, — сказал государь и пошел из комнаты, спустился по лестнице во двор.
Не остановили.
Тогда он отправился смотреть, как устроился Дмитрий.
Комната была занята кроватью, комодом для платья, столом.
— Скажи мне, Екатерина Григорьевна, — спросил Василий Иванович, смущенно улыбаясь. — Пока нас везли сюда и, знаешь, даже во сне, хотел я вспомнить себя ребенком и не мог. К чему бы это?
— Наверное, ты не был ребенком, вот и не можешь вспомнить, — в сердцах сказал Дмитрий: ему не нравилась теснота жилища.
В глазах Екатерины Григорьевны тоже мерцала ненависть. Василий Иванович удивился.
— За что ты на меня в обиде, Екатерина Григорьевна?
Она молчала, но злые огни засверкали чаще в ярче. Василий Иванович вздохнул.
— Напрасно гневаешься. Твой супруг погубил меня в Клушине. Но я не виню Дмитрия. Мы — дети греха. Мой отец водил дружбу с опричниками, о твоем же батюшке, Екатерина Григорьевна, умолчим. Не станем поминать и наши вины перед людьми, перед Богом. Их много, — вдруг поклонился Екатерине Григорьевне до земли. — Прости меня! Ах, если бы я только вспомнил себя ребенком!.. Тогда бы я жил…
— Зачем?! — крикнула, как сорвалась, Екатерина Григорьевна.
— Ради жизни. Мне шестидесяти нет. Навуходоносор семь лет травой питался, а потом Господь вернул ему величие и царство.
— Тебя не вернут! Тебя вся Москва ненавидит! — закричала Екатерина Григорьевна.
— Неправда, — сказал Василий Иванович. — Нам другого надо опасаться. Как бы в Москве не пожелали моего возвращения.
— И что тогда? — спросил Дмитрий насмешливо.
— Тогда нас убьют… Сеном удушат…
20
Дома земля давно белая. Лес, как царь-государь, в горностаевой шубе. А здесь одно небо в пороше, зима в воздухе тает.
Запестрело, наконец побелело. Потом сыпало, сыпало. Гостынский замок стал ниже, меньше.
У Василия Ивановича кружилась голова, даже по утрам. Однажды, поднявшись с постели, он упал.
Приезжал доктор, важно чмокал губами, пустил кровь и приписал лежать.
Василий Иванович лежать не захотел. Одевался, молился, смотрел в окно, ожидая, когда подадут кушанья.
Ему хотелось веселой трескучей зимы, но более всего он ожидал тепла. Да только мысли о тепле день ото дня становились холоднее, оборачивались сосульками.
И приснился сон Василию Ивановичу. Годунов младенца несет.
— Меня! — обрадовался князь.
Подошел к Борису Федоровичу, развернул пеленки, а это — другой.
— Сынишка! — сказал Годунов. — Первенец. Помнишь, я носил его в храм Василия Блаженного, святой водой поил, а он — помер.
— Это было в семь тысяч сто девяносто шестом году от сотворения мира, — сказал Василий Иванович.
— В тысяча пятьсот восемьдесят восьмом, — согласился Годунов. — Я еще не был в царях.
— Борис Федорович! — поспешил Василий Иванович поделиться радостью. — Ты не знаешь, а я ведь тоже!..
— Что тоже? — Годунов завернул пеленки и быстро пошел прочь.
— Я тоже был царем! — закричал Василий Иванович изо всей мочи, потому что Годунов был уже очень далеко.
Не услышал. Услышал бы — обернулся.
Пробудившись, Шуйский лежал в изнеможении, в отчаянье.
«Сам ему скажу! — пришло вдруг на ум. — Был я в царях! Был!»
Торопливо принялся вспоминать, что сделал доброго для царства. Мысли рассыпались, как пшено, и ни одну из пшенинок не удавалось взять пальцами, поднести к глазам, рассмотреть. Ну никак, никак нельзя было ухватить. Ни единого зернышка.
«Да ведь опять сон, — успокоился Василий Иванович. — Птицей надо обернуться, чтоб поклевать пшено».
…В тот разъяснившийся день царица Марья Петровна сидела возле окна в келии своей, во граде Суздале, за стеной Покровского Девичьего монастыря. Вышивала серебряной крученой ниткою ангела на плащанице.
Синицы на голеньких вишнях свистели. Тонко, чисто. В небесных полыньях являлось солнце, и Марья Петровна чувствовала, как лучи прикасаются к щеке, и, радуясь ласке, думала о муже.
— Пусть и тебя согреет, как меня.
Вдруг потемнело, сильный грубый удар потряс окно.
Марья Петровна вскрикнула. Подбежала келейница.