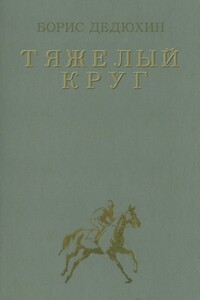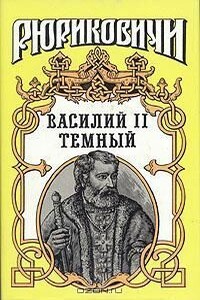— Зачем? — не понимал Андрей. — А как же тогда сосредоточиться в молчании, углубиться в себя, если кто-то тебя сзади понуждать будет…
— Нет, тарагой Андрэя, жизнь коротка, торопиться надо!
С тем оба согласились, что интерьер храма у мастеров удался не хуже, чем внешний облик. Конечно, это не константинопольская София, где купол производит впечатление чуда: в каком бы месте ты ни стоял, взор твой тянется непременно ввысь, к единому центру величавого здания, однако и войдя в малый храм Рождества Богородицы, человек невольно остановится и вознесет взгляд свой к куполу.
Дело теперь за изографами, их хитрость должна завершить начатое…
А слухи о казнях все полнились, все настойчивее ходили по Москве. Говорили, что из семидесяти человек иные уже дух испустили — задохлись в тесных порубах. Не готова оказалась Москва столь много преступников одновременно в темницах и погребах содержать. Разные слухи ходили и о месте казни. Говорили сначала, что великий князь велел лобное место на торговой площади возле Кремля сделать, а потом будто бы передумал, велел казнь вести в урочище Кучково поле, где некогда стояли красные села и слободы боярина Стефана Ивановича Кучки, чьи сыновья принимали участие в убийстве Андрея Боголюбского, а может быть, даже организовали это злодейство. На том поле Дмитрий Иванович Донской учинил первую публичную казнь изменнику земли Русской…
Андрей с Феофаном стояли в пустом храме, без слов понимали друг друга… Тако жизнь пестра, подобно жнивью под облаками, ветром гонимыми. Строили храмы новые, чтобы душа взор лила горе, и собирались семьдесят душ допрежь срока с телами разлучить, судя их судом человеческим, а не Божиим. И все это была жизнь единая, неразделимая, высшим произволением данная, человеческой волей творимая.
Полагали изографы, что Василий Дмитриевич не может никак решиться и потому затягивает окончательный приговор. Не знали они, что великий князь для вящей острастки пригласил на торжественное событие князей и бояр из всех уделов. И вот шли и ехали к Кремлю по дорогам, посадам и улицам Москвы смоляне по Волхонке и Знаменке, волоколамцы по Никитской, тверяне по Тверской, ярославцы по Лубянке, владимирцы и суздальцы по Покровке, серпуховцы через Замоскворечье по Ордынке и Полянке, калужане по Якиманке.
Большое празднество задумал учинить наследник Дмитрия Донского. А известный всей Москве юродивый разносил свою новость:
— На Сивцевом Вражке баба родила младенца с петушиными ногами… «Завтра Страшный Суд грянет!» — изрек тот младенец и тут же помер.
7
Феофан Грек писал главную, храмовую икону. Дивились все, кто видел его работу, Андрей созерцал благоговейно: истинное чудо вершилось на его глазах!
Письмо непревзойденного Феофана властно увлекало человека через видимый образ к неведомому величию Божества, одухотворяло и возвышало молящегося. На гордом золоте фона слепила голубизна одежды, словно бы сотканной из сияния небесной глубины, простая охра, коей выписан лик Пречистой, обрела пленительную нежность. Феофан, по обыкновению, писал образ не по подлинникам, не по образцам, а так, как ему представлялось. Изобразил он Деву Марию одну, без дитяти, не так, как привычно это видеть на всех богородичных иконах, начиная с Владимирской Божией Матери, написанной святителем Петром[110].
На иконе Феофана она стояла с воздетыми к небу руками.
Андрей видел в Новгороде в Софийском соборе Знамение — Божья Матерь там тоже держит руки перед собой. Восхищался он боголюбивой, написанной по велению князя Андрея Боголюбского такой, какой она привиделась ему — со свитком и молитвенно поднятыми руками, прижимающая благословенного Христа Спасителя[111]. И столь же древнего письма Ярославская великая панагия Оранта, Предстательство Пресвятой Богородицы за мир[112] вспоминалась Андрею, когда смотрел он на Марию, написанную Феофаном, только ни на одну из предшественниц нимало не походила она.
Художническое своеволие на его иконах принимал Андрей уже без былого недоумения, с пониманием тайны изографического искусства — новое, иное откровение поражало его сейчас.