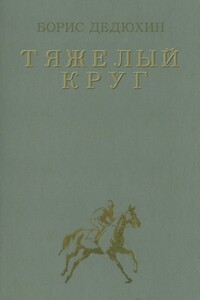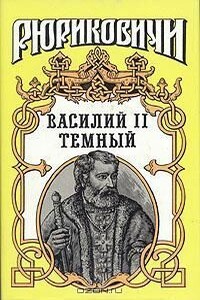Великий князь поначалу решил сам возглавить поход, но тут случилось горе в семье — преставился брат Иван с нареченным иноческим именем Асаф.
Хоть и знали все, что болезный он, что не жилец, однако Евдокия Дмитриевна все равно убивалась, да и Василий не сдержал слез. Положили братца у Святого Спаса в монастыре, проводили на вечный покой в ангельском чине, и тогда Софья Витовтовна помирать собралась — опять разродиться не может. Лекари выходили ее, но новорожденный Георгий столь худо из себя выглядел, что вряд ли можно было предсказывать ему судьбу более счастливую, чем Ивану[108].
Андрей Рублев перехватил великого князя на паперти Успенского собора. Василий думал, что он о строительстве храма Рождества Богородицы хочет что-то узнать, думал отговориться на ходу — де, потом, потом, сейчас недосуг, но Андрей встал на пути, не пустил. Взгляд мученический, бледное лицо, столь исхудавшее, изможденное, что Василий невольно воскликнул:
— Ты как с креста снятый… В пост так изнурил себя?
— Не то, государь! Ты зачем Живанку обидел?
— Это присуху Пысоя, что ли? Так он же монах, зачем она ему?
— Она Христова невеста была, а ты изнасильничал.
— Нет, Андрей, — невольно стал оправдываться Василий, — она не постриглась еще тогда… Разве что сейчас…
Андрей смотрел в упор и молчал, на высоком и чистом челе его нервно пробивалась голубая жилка. Повернулся и медленно пошел прочь, и даже в обтянутой черной рясой чуть ссутулившейся спине его читалось осуждение. Василий хотел остановить его, окрикнуть, что-то объяснить или потребовать, но в последний момент поостерегся: а ну как Рублев даже и не оглянется на зов великого князя?
Мрачнее тучи явился Киприан, сообщивший:
— Доброхот скорбную весть с моей родины принес. Амуратов сын Челябий Амиря Турский взял землю болгарскую и славный город Тернов. Царя, патриарха, митрополита с епископами пленил, мощи святых пожег и соборный храм в мизгит — церквище варварское — претворил.
— Что агаряне христианский храм в мечеть превратили — не диво… А вот потомок князей Белозерских Константин в Великом Устюге православные церкви сквернит — это каково?
— А я и говорил тебе еще в Нижнем, что мягок ты, добр излишне. Государь не должен потворствовать беззаконию.
— Молчи, святитель, не сыпь на раны соль.
Василий Дмитриевич продиктовал дьяку текст грамоты к Юрику и Владимиру Андреевичу, в которой предписывал схватить и доставить немедля в Москву не только убийцу Максима, но и всех причастных к этому, как много бы числом их ни оказалось.
Приказ великого князя был исполнен очень скоро: на Троицыну родительскую субботу привели из Торжка в Москву семьдесят закованных в железо злодеев.
5
Дважды заметил Василий, что Рублев избегает встречи с ним — сначала прошел потупившись, не подняв глаз из-под низко надвинутого куколя, второй. раз вовсе перешел на другую сторону Соборной площади. Василий досадовал и не знал, как вернуть расположение любезного его сердцу изографа, но тот, видно, сам понял, что невместно же великому князю искать примирения с черноризцем, первый повиниться решил, подошел после великого славословия в день отдания праздника Пятидесятницы, спросил, волнуясь:
— Скажи, государь, правдива ли молва по Москве идет, будто решил ты семьдесят православных людей убить? — Спросил и замер, глядя в упор своими глубоко утомленными и потому кажущимися темными глазами. Василий уже привык к его обычаю вот так внезапно замыкаться, погрузившись в свой мир или словно бы сожалея о сказанном и ожидая подтверждения своим словам. И не мог, конечно, не увидеть Андрей, как тень неудовольствия и огорчения пробежала по лицу великого князя — не тех, знать, слов тот ждал…
— Убивают убийцы, а я разве похож на него?
— Если совершишь убийство, то станешь им.
— Нет. Я совершу казнь. Это не убийство, но на казанье.
— Лишить жизни — это убить.
— Убить можно человека, а если лишают жизни преступника — то будто возмездие.
— Что же, по-твоему, это справедливое воздеяние — лишить жизни стольких людей?
— Это мщение! А месть должна превышать преступление и предупредить новые! И сам Христос не запрещал казнить преступников…