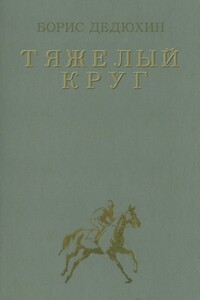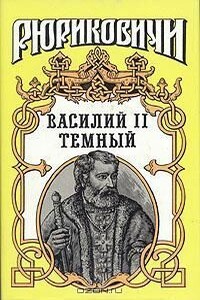— Эка!.. А отец без твоего благословения повел полки за Дон. Пусть так и впредь будет, по-европейски…
— Нет! Не ты, так преемники твои поймут, что нельзя терпеть, чтобы язвы разъедали власть в государстве. Пойми, сын, положение твое таково, что ты должен готов быть в любой миг повернуться в любую сторону, глядя по тому, куда дует ветер, ты обязан при необходимости с легким сердцем вступить на путь зла. Кто же в таком случае позаботится о спасении души твоей?..
Не все из того, что настойчиво внушал пролазчивый Киприан, доходило до сердца Василия, но соображение о том, что грех за клятвопреступление, жестокость, вероломство может взять на себя кто-то другой, а он, князь, простой смертный человек, слабый и грешный, может, таким образом, не совеститься и не каяться, было соблазнительным.
Василий велел организовать новую погоню за бежавшими от его кары дядьками Василием и Семеном, а при поимке обойтись с ними круто, как с переветниками, умыслившими злое дело.
Многочисленные чада Василия Румянцева горланили новую скандовку:
Завтра встанем,
Завтра скажем
«Нынче праздник!»
Оголодавшие за пост ребятишки торопились, завтра лишь Рождественский сочельник.
В обратный путь из Нижнего Новгорода Василий Дмитриевич наметил выходить послезавтра — двадцать пятого декабря.
Этот праздничный день Рождества Христова был отмечен в летописном своде монахом Печерского монастыря как день черный — как конечный день истории некогда славной и могучей державы, основанной Андреем Боголюбским. Это понимал и чувствовал монах-книжник, чьей рукой водило высшее духовенство и великий князь; но что думал простой люд?
Василий возвращался домой, но возвращался не с чужбины, как месяц назад. Оглядываясь окрест себя, он не видел ничего ни чуждого, ни незнакомого, ни непонятного — Нижний Новгород был словно бы продолжением Москвы, частью, украйной ее.
Заснеженные улицы, избы, клети, терема. На карнизах домов, на ветках деревьев — куржа, что белые кружева на расшитом вороте у девицы, которая прошла быстрой походкой мимо, печатая следы узкими подошвами красных сапожек. Тихо утром возле домов. Где-то лает неохотно собака, запел и поперхнулся на морозе петух. Бабы у ворот, размахивая руками, посудачили недолго и разошлись.
Топятся печи, из изб дым выползает вниз через волоковые окна либо подымается столбом из труб. Не горький дым, даже и вкусный: пекутся праздничные пироги.
Легок воздух, мягок снежок, морозец чуть щиплет.
Василий, закутавшись в медвежью полость, выглядывал из крытого возка, прощаясь взглядом с городом, который стал теперь его собственностью.
Все его — дома, храмы, амбары, и люди — его подданные.
Девица в меховой шапке. Старик с усами и бородой в инее, направившийся к торговым рядам; и еще один старик, с деревянной лопатой, которой он чистит подход к своему дому от калитки.
Мелькают, кружась, тулупы — желтые, черные, зеленые… Березы с розовыми ветками… Гуси с красными ногами… Дятел на дубу… Черные вороны на небе… Лошадь серая в яблоках… Еще одна лошадь промелькнула — масть не разглядеть, видна лишь богатая серебряная сбруя.