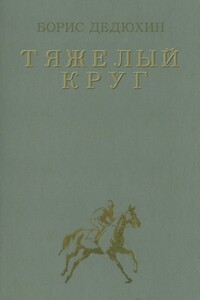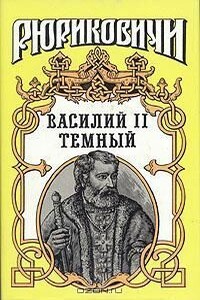Тебриз не торопился с ответом. Знал себе цену, имел что сказать.
— Только одну правду надо, гольную правду, — предостерег Василий.
Тебриз отозвался на это:
— Ты же знаешь, княже, что в Орде правда тонет, когда всплывает серебро.
— Боишься продешевить?
Тебриз резко взял на себя ременный повод, его лошадь, сухая и цыбастая, враз подравнялась с лошадью Максима, но Тебриз тут же и осадил ее, держась почтительно за спиной великого князя.
Василий повернул голову, увидел рядом с собой загорелое лицо, в который раз удивился тому, что у черноволосого смуглого азиата такие светлые, цвета знойного степного неба глаза, умные и наглые. А Тебриз отметил про себя, что у великого князя глаза синие и холодные, под их взглядом он сразу подобрался внутренне и отбросил мысль о каком-либо своем притворстве или плутовстве. Ему довелось служить разным повелителям, и он научился безошибочно читать их взгляды. У хана Тохтамыша глаза хитренькие, смотрящие искоса, мол, меня не надуешь, а я вот могу, но — нет, это лишь самооборона, попытка спрятать свою опаску и страх оказаться обманутым самому. У нижегородского князя Бориса Константиновича глаза светятся чистой голубизной, доверием, он не боится быть обманутым и сам только и думает, как бы надуть любого, хоть простофилю-славянина, хоть чванливого и самоуверенного кипчака. И Тохтамышу, и Борису нижегородскому, когда выражали они сомнение или колебание, Тебриз клятвенно говорил: «Ложь в донесении — все равно что крысиный помет в кумысе». Хотел и сейчас защититься проверенным заклинанием, но сказал совсем иное:
— Да, государь, я тогда предал тебя…
Василий довольно улыбнулся, так что глаза его чуть сузились в прищуре. А у Тебриза, напротив, всегда по степняцкой привычке прищуренные глаза сейчас широко раскрылись, от них разбежались к вискам белые пучочки морщин. И уж вовсе неожиданное признание сделал Тебриз, для самого себя даже неожиданное:
— Я многих предавал, но сознаюсь и каюсь первый раз.
Василий молча отвернулся, довольная улыбка осталась на его лице: он поверил в искренность ордынского переветника.
Тебриз искательно подкашивал взгляд на великого князя, но не смел подать коня вперед. Видел лишь сбоку лицо Василия, подумал, что он что-то насвистывает про себя. Губы под мягкими белыми усами сложены трубочкой и изредка вздрагивают. И вспомнил, как впервые увидел Василия в Сарае почти десять лет тому назад: двенадцатилетний отрок, худенький и бледный, сидел на глиняном обрыве, смотрел неотрывно в волжскую даль и насвистывал нежную и грустную песенку, вспоминая, очевидно, дом, мать и отца, Москву, зеленую Русь. Думал Тебриз, что сердце его не способно испытывать жалость, однако же тогда вот пожалел русского княжича, хотел помочь ему бежать. И помогал, и едва не довел дело до конца, однако в последний момент сгубила жадность: подумал, что Тохтамыш щедро наградит за возвращение беглеца, и не ошибся, но с тех пор нет-нет да и начинает глодать сердце запоздалое раскаяние.
А Василий, раскачиваясь в седле, действительно насвистывал песенку, притом ту же самую, что и тогда в Сарае. Думал не о Тебризе, о совсем стороннем и ненужном. Думал: верить ли, будто все в мире известно, все земли исхожены, все загадки разгаданы? Если так, то отчего же по утрам солнце встает каждый раз по-новому? Оно, может быть, и верно каждый день новое? Облака вон плывут — и они ведь не одни и те же, нигде даже и двух похожих не увидишь? Откуда, куда и зачем плывут они? Попутным ли ветром гонит их, и они летят, не зная куда, или же идут они, как весенние гуси, по изведанным и проторенным воздушным путям?
Нет, не о Тебризе он думал, однако же неожиданно обернулся к нему, спросил в упор:
— Хочешь грехи свои замолить?
— Нет. Человеку до двенадцати лет Аллах записывает грехи на текучей воде, отроку прегрешения заносятся в пергамент из степного песка, а людям мужалым их проступки высекаются на камне.
— И много же гранита Аллах на тебя извел?
— Предостаточно, однако, не стесать и до Страшного Суда. Но один грех стесан, верь мне, Василий Дмитриевич!
Перед подъемом на Алтынную гору, за которой лежал на берегу Волги город Укек, решили сделать короткий привал. Василий велел откупорить бочонок с малиновым медом.