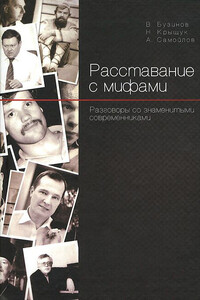Прихожу, например, к такой-то и говорю:
— Так и так. Мне справочка нужна. Свидетельство о смерти. Гражданин, в скобках имя, и нам пожелал долго жить.
— Это замечательно, — отвечает стерва и почесывает локоть, который, как замечено, стареет у женщин первым. — Это замечательно, что он умер таким молодым и добрым и, судя по вашим глазам, даже с мафией не связан. Но вот, не сочтите меня формалисткой, покойник подозрительно похож на вас.
— То есть что значит, подозрительно похож? Это я и есть. Мне только справку надо.
— Тогда вопрос решается просто. Вызываем милицию и обсуждаем это досконально.
У меня переживания. Мне, можно сказать, ни до чего. Могу ли я с человеком в погонах обсуждать такую интимную проблему, как уход из этого мира?
Но вышло все не так…
Осенняя прелюдия
Дежурная по летальным исходам
Улица подняла меня вместе с другим податливым народом и вынесла к каналу, под поеденные морозом липы. Деревья тут же начали обдувать гнилой свежестью; одновременно, передернувшись, они успевали стряхивать с себя растерянную птичью мелочь и свистящим шепотом подавать команды торопящимся в стойло облакам. Во всем этом угадывался некий смысл, мне уже недоступный.
В эту пору воздух даже в городе отдает палой грушей и забродившей ягодой. Раньше мне всегда был приятен этот привкус сезонного разложения, сырой дух корней, который манил еще наших предков, питающихся дохлой рыбой, камбием или объедками от пира хищников. Мой род шел, вероятно, прямо от них, а не от предков-охотников. Вид убитой птицы, опирающейся на крылья, как на костыли, невыносим; для счастья сбывшегося инстинкта мне хватало застигнутого под низкой еловой кроной боровика.
Но сейчас не было во мне безотчетного ликования. Я шел по осени, как по большой продуктовой камере, в которую холод запустили с опозданием, если, конечно, не имели в виду приготовить какой-нибудь чукотский деликатес с душком, вроде копальхена. Под ноги то и дело попадались возбужденные, подергивающие шеями собаки, и этот ветер, горящие с утра фонари… Что может быть тоскливее осеннего дня, зернистого, с криминальными, как на газетной фотографии, тенями!
Я обнаружил себя с открытым ртом над мальчиком, который проталкивал по инкрустированному льдом ручью щепку, груженную стеклышками. Весь экран моего зрения занимала его голова. Волосы сбегались к середине воронкой, рисунок, космический по затее, я понял это впервые и неизвестно чему обрадовался. Покатый спуск от воронки вел к родничку. Зачем стервец сдернул свою шапку арбузной раскраски? Родничок пульсировал, как у младенца, и дымился. Попади сюда крупная градина, и прекрасная возможность жизни упущена навсегда. Не будет ни гения, ни любви, и пузыри звуков, уже и теперь таинственные, как послания инопланетян, никогда не превратятся в речь. Я содрогнулся от этой более чем вероятной и жестокой шалости судьбы.
Выходит, смерть с первого дня ерошила пух на этой незатянувшейся полынье, и в каждом материнском поцелуе таился ее смех?
Но тут полынья на моих глазах затянулась, взгляд утратил рентгеновскую проницательность, потные волосы продолжали, впрочем, слегка дымиться. Недавний младенец тихо выговаривал проклятия.
— Тоже мне еще камарилья! — прокряхтел он.
Я смотрел на него, как когда-то на египетские рисунки, пытаясь понять, чем заняты эти застигнутые врасплох, грациозные, с острыми плечами и осетинской талией, глядящие мимо меня человечки?
Родители, по-разному убранные каракулем, дежурили в стороне. Мама, пряча ладони в седой каракулевой муфте, сказала:
— Попала в Интернете на статью. Автора забыла. «Самостеснение Толстого». Очень интересно.
— Что это значит? — спросил муж в каракулевом пирожке.
— В смысле?
— Стеснительность или стесненность?
— Самоумаление, я думаю.
— Которое паче гордости?
— Ну разумеется.
— Сеня, — позвал отец, — суши весла. Выгул закончился.
— Па-па! — закричал пузырь, как будто только и ждал этой сцены, и тут же получил легкий пинок ногой и забился в театральных конвульсиях, обкладывая голову мокрыми листьями.
— А мне потом стирать, — сказала жена, посмотрев на мужа с любовной укоризной.