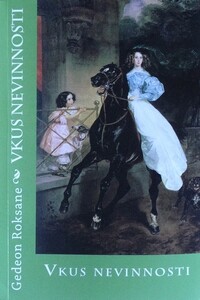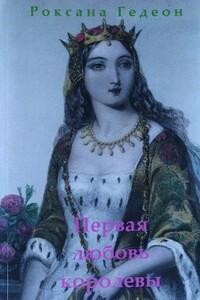– Ну, хорошо… Давайте поедем.
– Что вы хотите взять с собой?
– Я? Да ничего. Мне все привезет Паулино. А сейчас я не хочу терять ни минуты на сборы.
– В таком случае, – заявила мадемуазель Фурси, – едемте тотчас же, ибо чем раньше мы будем в гарнизоне, тем лучше для вас. Вам там приготовили комнату по соседству с полковником.
Я посмотрела, как тяжело она шагает к повозке, волоча поврежденную ногу, и засомневалась.
– А вы сумеете сами управлять лошадьми, мадемуазель? – спросила я. – Может, надо взять кучера?
– В этом нет необходимости, – сказала мадемуазель Фурси с довольно надменным видом, – я могу справиться и с чем-нибудь похлеще, чем лошади… да-да, могу.
Такие двусмысленные ответы приводили меня в ярость, однако на сей раз я, опасаясь чересчур разволноваться, решила смолчать.
Я торопливо попрощалась с Маргаритой, попросив ее приехать сразу, как только она узнает о том, что у меня начались роды, а пока побыть с Авророй. Девочка обняла и расцеловала меня, заручившись обещанием того, что через несколько дней я вернусь к ней с маленькой живой куколкой – мальчиком или девочкой. Она показала мне чепчик, который нарочно сшила для такого случая.
Дорога шла вниз, теряясь в пальмовых рощах. Листья магнолий, лепестки их розово-белых цветов, омытые многочисленными ливнями, осыпались мне на платье. По золотисто-сиреневой дымке, окутавшей раскидистые кроны деревьев, было ясно, что приближается ночь. Вечера здесь как такового не было, и ночь не наступала, а просто падала на землю, сжимала в своих темных объятиях, погружала природу в сладостную дымку сна. Ночью на Мартинике никогда не наступала та чарующая тишина, что господствует во французских парках; на Мартинике все было иначе – даже в ночное время слышался неугомонный треск цикад, жужжание насекомых и шорох ящериц, прячущихся в траве и корнях деревьев.
Здесь не бывало совершенно безветренной погоды; воздух все время перемещался и всегда приносил аромат кофейных плантаций и соленый запах океана. А когда шел дождь, эти звуки мгновенно затихали, и тогда можно было услышать, как живо журчит вода, падая на землю с широких пальмовых листьев, как течет она по многочисленным земляным руслам и оврагам, бьется в сточной трубе и стучит в оконные стекла. После ливней вновь наступала жара, и влага поднималась с земли легкими клубами пара, тающего в ярко-синем небе. Пар причудливо изгибался, образуя в воздухе самые немыслимые фигуры, и в его движении мне виделись то каменные башни Венсенна, то белоснежные стены замка Сент-Элуа… Я вздыхала, вспоминая, как когда-то была там счастлива.
– …В этом месте мне будет удобнее выполнить ту обязанность, которую возложил на меня ваш отец, – услыхала я голос мадемуазель Фурси.
– Какую обязанность? – безмятежно поинтересовалась я. Она, наверно, говорила уже давно, однако я, задумавшись, не только не заметила, что вокруг стало совсем темно, но и не вслушивалась в ее слова.
– По уходу за вами.
– А точнее?
Она обернулась ко мне, воинственно расправив костлявые плечи.
– Я должна буду позаботиться о вашем ребенке, если вам угодно точнее.
– Вы? – Я улыбнулась, но щемящая тревога уже завладела мной, и я невольно прижала руки к животу. – Каким же образом?
– Ваш отец поручил мне пристроить его в подходящую семью.
Мне показалось, что эта фурия лишилась рассудка. Она несет какой-то вздор. Или, может быть, я неправильно ее поняла?
– Что значит «пристроить»?
– На воспитание.
– Вы, наверное, сошли с ума, – сказала я. – Мой ребенок не сирота, и только я буду его воспитывать.
– Вы бредите, милейшая. Вы вернетесь в Париж.
– А он? Ребенок?
– Он останется здесь.
– Не понимаю, как это может быть.
– Ваш ребенок останется на Мартинике. Ваш отец не допускает даже мысли, что вы вернетесь во Францию с незаконнорожденным ребенком на руках.
– Вы… вы хотите сказать, что разлучите нас?
– С того мгновения, как он родится.
У меня во рту все пересохло. Я судорожно вздрагивала, пытаясь осмыслить то, что услышала.
– По какому праву? – воскликнула я. – Вы не посмеете прикоснуться к моему ребенку!
– Если вы будете упрямиться, то…