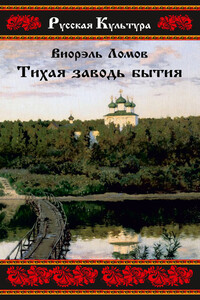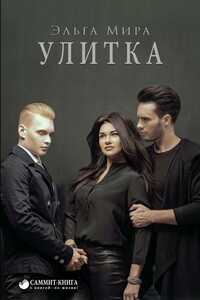Ни отец, ни брат не поздравили меня с днем рождения. С уходом матери я потеряла единственное живое существо, для которого я хоть что-то значила. Я чувствую себя чужой в родном доме, где на меня обращают меньше внимания, чем на ковер или буфет. Ни отец, ни брат — сейчас они оба в Париже — даже не подумали обо мне. Вернувшись в субботу, они и не вспомнят, что мне стало на год больше. А сами оскорбились бы, если бы я забыла об их празднике и не проявила к ним внимания, не приготовив маленький подарок. Их привязанность ограничивается ими самими. Другим они ничего давать не желают. С того момента, как я поняла эту очевидную истину, для меня их поведение — открытая книга. Они настолько предсказуемы, их эгоцентризм настолько неистов, что все это было бы смешно, если б не вгоняло меня в такую печаль. Каждый год я стараюсь ни намеком не напомнить о грядущем событии и оказываюсь права: они про меня забывают.
Как всегда, помнит одна Луиза. Сегодня утром, когда я зашла на кухню, она обняла меня и прижала к себе — она, которая обычно так сдержанна в малейших проявлениях чувств, улыбнулась мне с бесконечной нежностью и пожелала всего самого хорошего и еще лучшего в будущем. И ее улыбка стоила всех подарков в мире. Она согрела меня, как луч солнца. В день моего совершеннолетия я оставлю отцу с братом записку, уведомляющую, что я уезжаю на некоторое время, и окажусь в Америке прежде, чем их обеспокоит мой отъезд. Я поклялась памятью матери, от которой у меня не осталось ничего, кроме крови, текущей в моих жилах, и она единственная, кто будет оберегать и поддерживать меня из того далека, где она теперь пребывает.
* * *
«Мы, писатели, художники, скульпторы, архитекторы, страстные поклонники первозданной красоты Парижа, во имя французского вкуса, которым решили пренебречь, во имя искусства и французской истории, поставленных под угрозу, со всем негодованием протестуем против возведения в самом сердце нашей столицы бесполезной и чудовищной Эйфелевой башни…»
Ги де Мопассан, Александр Дюма-сын, Эмиль Золя, Гуно, Шарль Гарнье были в числе трехсот деятелей искусства, подписавших эту петицию, а многие другие, среди них Гоген, Верлен, братья Гонкур, Альфонс Алле, всячески башню критиковали.
* * *
С отцом у меня связан самый сильный испуг в жизни. При одном лишь воспоминании о том случае у меня мурашки бегут по телу. Зайдя к нему в мастерскую, я увидела, как он стоит перед офортным станком в одной рубашке и целится из своего армейского револьвера прямо себе в глаз; я решила, что он сейчас застрелится, и закричала, он подскочил, побелел и начал корить меня за то, что я так ужасно рисковала: он мог нажать на курок, и револьвер бы выстрелил, хотя он просто рассматривал ствол, потому что оружие заклинивало. Эта история как нельзя лучше его характеризует: ни на мгновение его не порадовало, что дочь так дрожит за его жизнь, он увидел только несвоевременную и неуместную реакцию, обозвал меня глупой девчонкой, да еще посмел добавить, что «дочь» и «глупость» для него синонимы!
— Не знаю, что с ним случилось, но мне кажется, что барахлит барабан. А может, что-то с внутренним механизмом? Отдай его в починку оружейнику в Понтуазе[2]. И спроси, сколько это будет стоить. В наши дни лучше иметь дома исправное оружие, а я не собираюсь лишний раз тратиться, покупая новое. И захвати с собой коробку с боеприпасами, они у меня уже лет двадцать, патроны с черным порохом: пусть проверит, все ли с ними в порядке.
Он протянул мне револьвер и коробку с патронами. Не сказав ни «пожалуйста», ни «спасибо». И тут же вернулся к станку работать, как будто я вообще не существовала. Я убрала револьвер и коробку в ящик комода в своей спальне и прикрыла сверху платком. Не к спеху; если он желает, чтобы его оружие починили, пусть сам отправляется к оружейнику; у меня нет ни малейшего желания оказывать пусть даже пустячные услуги этому неблагодарному эгоисту, да еще и грубияну.
* * *
«Лантерн»[3], 21 марта 1890 г.
«Если бы это произошло лет пятнадцать назад… падение г-на Бисмарка приветствовалось бы во Франции как подлинное освобождение, и по эту сторону Вогезов