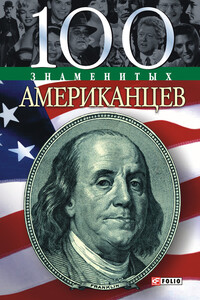Тема «города» раскрывается в «Венке» как предсмертный бред погибающего человечества; сменяются, в исступленном мелькании, страшные виденья: публичный дом, где царствует древняя Афродита; ресторан, двери которого ведут в ад; уличный митинг, на котором Гордый Дух внушает толпе жажду мести и разрушенья; игорный дом, где обреченные упиваются «мраком тайным символов и числ». Мир-призрак, безумие и ложь. Поэт, как новый Прометей, бросает вызов олимпийцам:
Все — обман, все дышит ложью,
В каждом зеркале двойник,
Выполняя волю божью,
Кажет вывернутый лик.
В отделе «Современность» мотив гибели старого мира заглушает грохот войны и громы революции. Поэт — «песенник борьбы», он поднимает «кинжал поэзии», он— с людьми «затем, что молнии сверкали»; в стихотворении «Цусима» Брюсов оплакивает гибель русского флота; повторяя «знакомую песнь» Гармодия, Брута, Робеспьера и Мара, он знает, что мир погибнет «в бездне роковой», что «над далью темных дней» светится неотразимый лик Медузы. И для него «есть упоение в бою и бездны мрачной на краю». В железных, накаленных строфах «Грядущие гунны» он восторженно славит разрушение:
Где вы, грядущие гунны,
Что тучей нависли над миром!
Слышу ваш топот чугунный
По еще не открытым Памирам.
……………..
Сложите книги кострами,
Пляшите в их радостном свете,
Творите мерзость во храме —
Вы во всем неповинны, как дети!
Мудрецы и поэты уйдут в пустыни и катакомбы.
Бесследно все сгибнет, быть может,
Что ведомо было одним нам.
Но вас, кто меня уничтожит,
Встречаю приветственным гимном.
Конец, разрушенье, гибель, уничтожение — подлинный пафос Брюсова. Он был «культурнейшим из русских писателей», убежденнейшим певцом цивилизации, гуманистом в самом широком смысле этого слова, но в сумеречных глубинах его духа таился исконный русский нигилизм. Он любил порядок, меру и строй, но инстинктивно влекся к хаосу; в Брюсове-европейце сидел древний гунн.
Теме города посвящен отдел «Поэм». Апокалиптические видения современного Вавилона захватывают своим грозным величием. Этот гимн железному лязгу и каменному треску «всемирной тюрьмы», где «толпа возвышает свой голос мятежный среди крови, пожара и дыма», — одно из самых патетических созданий Брюсова. Какое огненное напряжение в этих стремительных строках:
Славлю я толпы людские,
Самодержавных колодников,
Славлю дворцы золотые разврата,
Славлю стеклянные башни газет,
……………..
Славлю я радости улицы длинной,
Где с дерзостным взором и мерзостным
хохотом
Предлагают блудницы
Любовь,
Где с ропотом, топотом, грохотом
Движутся лиц вереницы,
Вновь
Странно задеты тоской изумрудной
Первых теней, —
И летят экипажи, как строй безрассудный,
Мимо зеркальных сияний,
Мимо рук, что хотят подаяний,
К ликующим вывескам наглых огней!
Из всех стихотворений сборника особенно поразила современников поэма «Конь блед» с эпиграфом из Апокалипсиса: «И се конь блед и сидящий на нем, имя ему смерть». Ею были очень увлечены молодые Блок и Белый, и она, несомненно, повлияла на их творчество. Эсхатологические чаяния были свойственны младшему поколению символистов: в «Симфониях» Белого, в «Стихах о Прекрасной Даме» Блока и в мистических стихотворениях Сергея Соловьева образы Апокалипсиса (конец мира, явление Жены, облеченной в солнце, и гибель Блудницы, восседающей на Звере), — занимали центральное место. Брюсов в своей поэме бросает вызов «мистикам» — для современного человечества, завороженного дьявольским наваждением города, нет ни смерти, ни воскресения. Если в адскую бурю города ворвется «Конь блед» с сидящим на нем всадником-Смертью, водоворот толпы приостановится на мгновенье, кто-то вскрикнет: «Горе! С нами Бог!», кто-то упадет в смятении на мостовую. Но через минуту нахлынут новые толпы, и опять польется «яростный людской поток». Только блудница и безумный, убежавший из больницы, узнают всадника и, плача, протянут к нему руки… Брюсов не верит в конец, в освобождение, в преобразование мира: жизнь города, этот «воплотившийся в земные формы бред», — безысходна. Бессмысленному и безумному кружению призраков суждена дурная бесконечность. «Конь блед» — совершенный образец брюсовского «свободного стиха». Ритмическая и звуковая структура его, напряженная, скрежещущая диссонансами, тяжеловесная и мертвенная, производит впечатление грузной механической силы.