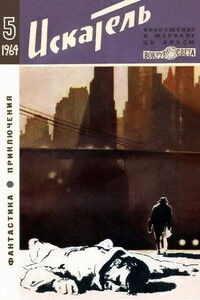Малая высота и плохая видимость не позволили различить очертания северной части Новой Земли, поэтому проход мыса Желания отметили по взятым пеленгам радиомаяка. Выйдя из зоны действия бора, изменили курс и пошли на остров Гукера.
Предстояло лететь 520 километров над морем Баренца. Эту часть моря мы посещали месяц назад, а потому сейчас она представляла для нас большой интерес для наблюдения за изменением льдов. Кажущаяся на первый взгляд однообразной картина льда для опытного глаза ледового разведчика представляла разительную перемену. Тонкие, длинные, ломаные разводья, раскалывавшие огромные ледяные поля, говорили о том, что где-то недалеко есть большое пространство чистой воды, куда свободно дрейфуют поля, разрываясь на части при отступлении. Этих разводий месяц назад не было. Тут же на навигационной карте наряду с прокладкой маршрута я зарисовывал это разнообразие льдов, ведя одновременно журнал ледовых наблюдений.
В наблюдениях за льдами мне помогал гидролог Золотов. Будучи хорошим теоретиком, он впервые наблюдал льды с птичьего полета, но тем не менее оказывал мне огромную помощь, так как я часто отрывался для штурманской работы.
Через полтора часа полета от мыса Желания погода резко изменилась: облачность разорвалась, поднялась до 600 метров, и в просветы выглянуло солнце. Астрокомпасом взял его пеленги. Несмотря на частую радиопеленгацию маяка мыса Желания, мы явно шли с уклонением на 5° вправо. Ввел поправку. Вскоре впереди справа появилось высокое кучевое облако, формы которого не изменялись по мере продолжения полета.
— Земля? — спросил Титлов.
— Остров Сальм, один из самых юго-восточных Земли Франца-Иосифа, — ответил я.
— Как скорость?
— Немного прибавили, двести пять километров в час.
Михаил Алексеевич разочарованно покачал головой.
— Ничего, машина стала легче, а за фронтом должен измениться ветер, — успокоил я его, внутренне сам проклиная встречный ветер, который, не переставая, дул уже свыше четырех часов.
Ледовая обстановка в связи с близостью земли также изменилась. Появилось много чистой воды и молодого, вновь образовавшегося за последнюю неделю льда, черного и совершенно без снежного покрова, вперемежку с тяжелыми полями осеннего образования. Изредка встречались небольшими группами айсберги, вмерзшие в поля, очевидно, оторванные от берегового припая.
Бухта Тихая сообщала хорошую погоду, но впереди лежащие острова были закрыты сплошной облачностью, которая ближе к Земле Франца-Иосифа опустилась до 50—100 метров. Чтобы не потерять из виду поверхности моря и не «вмазать» в отвесные ледяные берега островов, сливающихся в один тон с облачностью, решили итти на Тихую с юга, в обход островов.
Облачность все ниже прижимала нас к поверхности моря.
Лед здесь был мелкобитый, округлой формы, но больше чистой воды. Видимость упала до 1—2 километров.
Но вот под нами мелькнул береговой припай, и, оседлав его кромку, мы пошли вдоль западных берегов острова Гукера. Неожиданно облачность оборвалась, и перед нами открылась величественная картина Земли Франца-Иосифа.
Залитые солнечным светом, гордо высились застывшие в своем ледяном молчании заснеженные острова. Только кое-где вырывались из-под ледяного панцыря бурые скалы базальта, несмело напоминая в этом белом безмолвии, что есть еще земля, жизнь. У самого входа в бухту Тихую, как одинокий страж в царство холода, лежит грозная скала Рубини-Рок. Сейчас, в это время года, она была мертва и молчалива, но в мае ее крутые берега заселяются десятками тысяч прилетных птиц, и воздух вокруг нее тогда звенит неумолкаемой, разноголосой музыкой жизни. За Рубини-Рок на самом берегу, под обрывом плато острова Гукера, приютилась полярная станция бухты Тихой.
С самолета отчетливо было видно несколько домиков, старый ангар, ветряк. Вон в стороне стоит крест на могиле Зандера[5] — механика экспедиции лейтенанта Седова, а невдалеке обелиск летчику Эске, установленный в 1937 году. Старейший пилот, сподвижник Россинского и Блерио, первый русский летчик, перелетевший Альпы, сложил свою голову в штурме Арктики.
Все здесь до боли знакомо. За десять лет полетов много хорошего и тяжелого было связано с этой зимовкой. Воспоминания властно охватили меня. Сюда, ровно десять лет назад, мы прилетели с Водопьяновым на «Н-128» из Москвы. Скольких мучений и какого напряжения тогда нам стоил перелет! Но мечтать сейчас не время. Сбросив почту выбежавшим полярникам, мы с хода легли на новый курс, к Земле Александры.