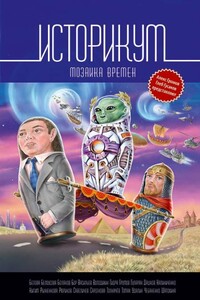"Как хрен с лимоном против дижонской горчицы", - ассоциация не заставила себя ждать. Также как очередной "микроскопический", по личным меркам Виктора, глоток коньяка.
Естественный, - чёрта с два! Противоестественный, как не крути, - шок от "переноса" наложился на привыкание к новому телу и периодические поиски, в дальних закутках сознания, следов первоначального "владельца" молодой "оболочки". К счастью, удивляться Виктор разучился ещё четверть века назад, в Афганистане. Жестокая реальность необъявленной войны с неявным, чаще всего, противником, вытравила любые поводы для удивления. Мир с тех пор стал восприниматься как совокупность вводных... "Солдат, не спрашивай", - вот и четвёртый тост подоспел. "А как же третий?" - пробовала возмутиться обыденная часть сознания. "Как-нибудь потом. Если захочу".
"За Самуила Гершевича Гинзбурга. За настоящего мужика, нашедшего единственно правильный выход. Земля пухом тебе, капитан"[113].- Виктор махнул ещё глоток из горла. Соседей по купе не имелось, и некому было удивиться молодому - пожалуй, на чей-то взгляд. даже слегка лощёному мужчине, пьющему прямо из горлышка бутылки коньяк и отчего-то часто моргающему, словно в глазах у него щиплет от нестерпимого желания плакать. Плакать... от вынужденной своей жестокости, от безысходности чужого, не своего, бытия, от обречённости правильного, но тоже чужого, выбора.
Как Кривицкий ухитрился освободить одну - правую - руку, Виктор не отследил. Также как не успел он остановить прыжок резидента вместе с креслом к столу, где лежал пистолет обойму которого, как и патрон из патронника, Виктор по счастью, успел вытащить от греха подальше. Оставалось только изумлённо смотреть как человек, несущий, как ему казалось, на себе неподъёмный груз - ещё не свершившегося и только что состоявшегося - предательств, почти сладостно, с непередаваемо злобной улыбкой, направляет ствол в его, Виктора, сторону и нажимает спусковой крючок.
Сухой щелчок затвора произвёл разительные перемены в лице "товарища Вальтера". Злобное торжество сменилось даже не недоумением, но обречённой решимостью. Резидент изогнул шею, поднёс свободной рукой угол воротника рубашки ко рту и резко сомкнул зубы. Доля секунды прошла, прежде чем разом обмякшее тело упало на пол.
- Самурай, бля. - Только и смог сказать Федорчук во вдруг обострившейся тишине. Откровенно идиотский - в европейском понимании, но единственно правильный с точки зрения русского солдата, и тут возражений от "реципиента" не последовало, - поступок, сильно облегчил отношения Виктора с совестью, но только лишь в тот, конкретный, момент. Если бы не этот отчаянный прыжок, резидента пришлось бы убирать.
"Что за жизнь сучья, - взорвался Федорчук, - уже для убийства придумали столько эвфемизмов, что скоро забудем, как это на самом деле называется. Но никогда, сдаётся мне, не забудем, как это делать. Слишком хорошо нас учили и почему-то мы оказались лучшими учениками..."
Непреодолимо захотелось курить. Делать это в купе Виктор не стал. - "Терпеть не могу спать в прокуренном помещении. Утром чувствуешь себя как невытряхнутая пепельница, и воняешь соответственно". - Вышел в коридор и опустил до половины тяжёлую раму вагонного окна.
В проходе полупустого и тихого в этот час вагона Федорчук оказался не один. Через купе от него, с незажженной сигаретой в руках, - зажатой как карандаш, но в левой руке, - у приоткрытого окна стояла невысокая, чуть полноватая брюнетка со странно знакомым профилем. "Чёрт, где же я мог её видеть? В Париже, а может быть в Марселе? О, вспомнил! В кино про этот, как его... секс в городе. Правда, там она блондинка. Но как похожа..."
Нечего скрывать, в прошлой жизни эта актриса очень нравилась Виктору. Он вообще был неравнодушен к женщинам подобного типа, с телом греческой богини и лицом библейской красавицы. В них было нечто такое, что заставляло совершать безрассудные поступки не сожалеть о последствиях. "Ибо нет ничего слаще, чем утонуть в огромных глазах её, чем касаться ладонями округлых бёдер её, чем припадать губами к лону её..."[114]