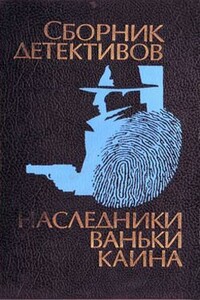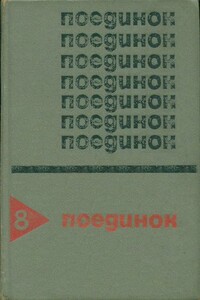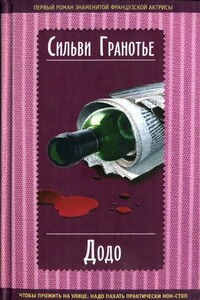Порхов постоял, коротко и непонятно взглянул на Альбину, потом сказал:
— Завтра выходим. С утра. Чтоб готовы были.— И ушел.
Колесников постоял рядом с Чалдоном, но около него уже хлопотала Альбина. Шумов побежал за водой для промывки раны, а Колесников, видя, что нужды в нем нет, ушел в провиантскую палатку спать. Два спальника валялись в углу. Он расстелил один. Плевать, что в нем спали урки. Не до таких тонкостей сейчас. Свалился и поплыл в легкой полудремоте. Он очень устал за эти два дня, но нервы были так возбуждены, что заснуть по-настоящему не удавалось. В полудреме Владимир слышал топот и храп лошадей за парусиновым тентом, разговоры Нерубайлова и Шумова, голос Альбины, отдающий приказания, треск костра, шорохи тайги.
В палатке было темно, и слипшиеся веки с трудом открывались и смыкались опять. И вдруг он услышал еле заметный шорох. Сел в спальнике и, разыскав в карманах спички, чиркнул. Дрожащий огонек высветил вход и стоящую в нем Альбину.
Он сразу проснулся. С оглушительной ясностью шумела за парусиной тайга. Пахло какой-то плесенью. Она стояла в нескольких шагах перед ним и смотрела. Спичка погасла.
— Альбина Казимировна,— спросил он хрипло,— припасы...
— Нет,— сказала Альбина,— я не за этим.
Она подошла и села рядом с ним на спальник, и все стало еще яснее и еще нереальнее.
— Колесников,— сказала она чуть дрогнувшим голосом.— Володя... Как вы ко мне относитесь?
У него все перевернулось в мозгу. Черт побери, зачем ей это? Ну и женщина! Но надо было не терять себя. Он прокашлялся.
— Я... С большим уважением...
Она засмеялась. В смехе была боль.
— Володя,— сказала она, протягивая руку и легко касаясь его холодом ладони.— Дело в том, что я люблю вас.
Он задохнулся. Все рушилось в этом мире, и все вставало из пепла.
Они сидели, тесно слитые, почти неразделимые, он чувствовал в ней каждую жилку и каждое биение сердца. Не о чем было говорить. Но говорить им было и не надо.
Внезапно откинулся полог, и луч фонаря, пошарив по углам, нашел их и остановился на лицах, заставив зажмуриться.
— Ясно,— сказал голос Порхова.— Ясно... Времени тут не теряют.
Фонарь погас, хлопнул полог.
— Все? — спросил Владимир, еще не веря.
— Все,— сказала она.— Оно давно было все. Но сегодня все стало на свои места. Я сказала ему. О тебе и о себе. И о том, что, даже если ты меня не любишь, жизни у нас не будет. Мне стыдно, как он вел себя в это время. Он сказал: «А что, собственно, произошло? Просто неприятности среди сезона. То, что урки погубили Корнилыча, это паршиво. Саньку тоже жаль. Но остальные-то — все отбросы. И этот Соловово—-репрессированный». Смысл этих слов наконец дошел до Колесникова и вернул его к реальности.
— Так это были всего лишь неприятности? — спросил он.— Только неприятности, и все?
Но зачем они обсуждают этого человека? Его не исправить. Он нашел золото, а на остальное ему наплевать. Но им-то он зачем? Владимир смотрел на Альбину. Глаза ее поблескивали в темноте, как у косули.
— Любимая,— сказал он.— У меня ничего нет... Я даже не знаю, куда мы с тобой сможем поехать.
— И у меня ничего нет,— сказала она, охватывая его шею руками.— Но ты у меня есть. Мне этого хватит.
Колесников понимал, что они, конечно, страшные эгоисты. Убиты люди, стонет и бредит неподалеку раненый товарищ. Но он любил ее, эту женщину, и ни о чем больше не мог сейчас думать. Он любил ее, и она любила его, и товарищи, те, которые остались в живых, и те, которые лежали в земле, должны были понять его и простить. Он сделал все, что мог, и теперь имел право на счастье.