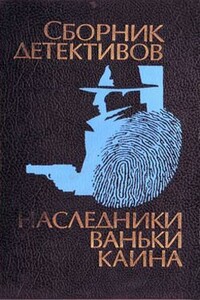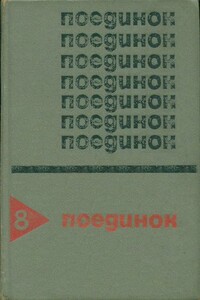Он спал всегда чутко, и сейчас проснулся от шороха и по привычке фронтовика, делая вид, что продолжает спать, поглядел из-под век. В палатке стоял Пашка и осматривал карабин. Вид у него был возбужденный, глаза блестели. Наклонившись над ящиком, он стал набивать карманы патронами. «Уж не уйти ли из партии собрался дурень,— соображал Корнилыч.— С него станется».
— Паш,— сказал он, высвобождаясь из спальника и садясь в нем.— Ты ружо-то оставь. Не положено мне его выдавать без разрешения.
Пашка, как стоял согнувшись над ящиком, так и застыл. Корнилыч начал обертывать портянки.
— Напрасно ты это придумал,— сказал он, сумрачно поглядывая на брата.— Все окольно, все вьюном, Чо хотел? Уйти собрался? А куда? Тут, кто покрепче тебя, до жилья не дотопает.
Он обул сапоги и встал, невысокий, крепкий, нахмуренный.
— Давай карабин, брательник,— шагнул он к Пашке, уже улыбаясь.— Ружо тебе не на пользу, однако. Ты с кайлухой пока ладить научись.
Пашка прыгнул к выходу и направил карабин в грудь брату.
— Вот чо,— сказал он, задыхаясь, лоб его был в испарине,— Слышь, не подходи, говорю — стрелю.— Голос его сорвался на визг, глаза были сумасшедшие.
— Сказился, поганец! — видя поднимающийся на уровень его лба ствол карабина, произнес Корнилыч,— А ну брось ружо!
Но Пашка, вдруг весь осунувшись, стиснул зубы и дернул затвором.
— Нужен мне карабин, а коли крикнешь, я те все пять пуль в брюхо встрелю. Понял?
Тяжелый, неудержимый гнев ослепил Корнилыча. Это ему братка говорит такие слова, ему, отдавшему все ради него? Да разве это человек? Не научили тебя — так он научит! Корнилыч шагнул, и Пашка выстрелил. Пуля цвикнула у самого уха.
— Значит, в брата стрелил, паря?—сказал он, подстерегая момент.— Видно, крепко родную кровь ценишь. Легко ее льешь.
Пашка отступил на шаг и был уже у выхода. Ствол карабина по-прежнему сторожил каждое движение Корнилыча.
— Баял я тебе,— сказал злобно Пашка,— нужен карабин. А раз нужен, так все одно возьму!
В ту же секунду, почти без размаха, Корнилыч швырнул в брата крышкой ящика и прыгнул. Он вырвал карабин, отшвырнул его и тяжело ударил в лицо осевшему Пашке.
— Ростил я тебя! — хрипел он.— Человека хотел сделать. А ты, каторжна душа, в брата стрелил! Змея! Паскудина подколодная!
Пашка застонал, Корнилыч опомнился, сел рядом с Пашкой, достал из кармана бинт, начал обтирать его лицо. Брат застонал, потом раскрыл один глаз, другой был залеплен синяком, взглянул на брата, сказал сипло:
— Не трудись, чо там... За дело бил.
И тут Корнилыч заплакал.
— Скотина ты! Бревно ты глухое,— бормотал он, тщетно пробуя сдержать спазмы горла.— Кто ж ближе-то тебя у меня?
Из единственного открытого глаза Пашки тоже потянулась слеза. Он с трудом сел и потряс за колено старшего.
— Не плачь, Кеш, поделом мне... Запутался я, Кеха... Пропал я,— он дернулся разбитым лицом и скривился от боли.— Не жилец я теперь.
Корнилыч выпрямился. Слезы у него разом высохли. Он вытер ладонью лицо и затеребил Пашку.
— Запутали, говори кто?
Но Пашка мотал головой и молчал, облизывая разбитые губы.
— Я понял! Это Хорь, он один мог! Так? Он карабин велел тебе выкрасть?
Пашка стрельнул в брата взглядом и отвернулся.
— Ясно,—сказал Корнилыч.— Только зачем, не пойму. Уходить, чо ли, из партии собрались?
Пашка дрогнул плечом, и Корнилыч понял: угадал.
— А чо уходить им? Ишачить не охота? Так идти тайгой — работа похлеще. Да и что уходить нормальным людям?
Он смотрел в разбитое лицо Пашки, а тот отводил, прятал взгляд.
— Стой,— сказал Корнилыч, осененный догадкой.— Санька говорил, чо рацию ему нарочно разбили. Чо не от дерева, однако, лампы побились, а кто-то потом хватил. Стоп! А когда первый раз лошадь упала, с ней этот их Глист был. Ни одна лошадь не упала, а та, что с рацией, в пропасть сорвалась... Это чо выходит? — Он не отрываясь, смотрел на Пашку, а тот, оцепенев, слушал брата.— Я принял этих людей в партию, а кто за них просил? Братка родной просил. А почему он просил за них, однако?—спрашивал Корнилыч, наливаясь злобой.— Знал, видно, зачем. Кто эти четверо, шпионы?— тряхнул он Пашку за шиворот.— Ну! Говори сейчас, потом хуже будет!