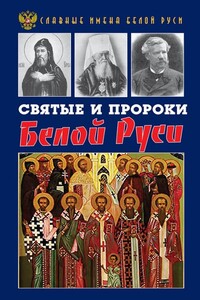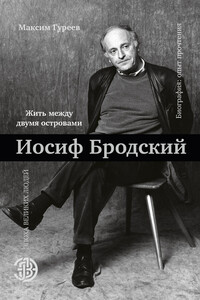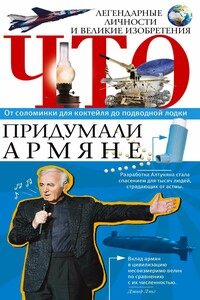— Все дни были трудными, — продолжал рассказ секретарь обкома комсомола, — но очень запомнился день 23 августа.
Именно 23 августа город окутал дым пожарищ. Клубы его заслонили свет солнца, и днем стало темно. При содействии авиации немецкие автомашины под прикрытием танков вышли к Тракторному заводу.
— Но не было никакой паники, — подчеркивал Левкин. — Молодежь собиралась около райкомов комсомола без всяких повесток и прямо отсюда — в бой. А пример давали активисты, потому что первыми ушли с оружием секретарь райкома комсомола Супоницкий, секретари из первичных организаций Ермоленко, Красноглазое.
Память о боях под Сталинградом бессмертна.
О них слагались легенды…
Говорили о том, что вода в Волге у Сталинграда кипела, — и нам рисовались зловещее ночное зарево, и столбы воды от взрывов снарядов, и бесстрашные девушки-сандружинницы, перевязывающие раненых, и заросшие щетиной, морщинистые волгари, работающие на переправах.
Говорили о том, что командный пункт Василия Ивановича Чуйкова в 150 метрах от фашистов. А он, Чуйков, ни на что внимания не обращает, ходит только в папахе, а каску даже в руки не берет.
В 1953 году я увиделся с Чуйковым в Берлине, в дни Международного фестиваля молодежи. Василий Иванович командовал Группой советских войск. Я рассказал Чуйкову про легенды, которые ходили в дни боев за Сталинград.
Он отмахнулся:
— Война проверяет каждого человека. Не все защитники Сталинграда были прирожденными героями. Мужественными воинами они стали потому, что их одухотворяла идея защиты Родины. Я бы сказал так — каждый чувствовал свою связь со своей Родиной, со всем человечеством.
Чуйков вспомнил комсомольцев — участников защиты Сталинграда.
— Я тогда говорил и сейчас повторю, что комсомольцы совершили много подвигов, они стойко и отважно сражались на Волге. Комсомол, руководимый партийными организациями, был всегда впереди.
В один из критических моментов в Сталинград для подкрепления пришли более восьми тысяч комсомольцев-десантников. Об этих воинах вновь вспомнил Василий Иванович:
— А впрочем, нет ничего удивительного в том, что рождались легенды. Десантники дрались в районе Тракторного завода. Противник за один день 5 октября произвел в этот район семьсот самолето-вылетов. На боевые порядки дивизии сбросил более шести тысяч бомб — это же сила! Немцы считали, что при такой бомбежке от наших порядков, как говорится, живого места не останется. Но стоило им шевельнуться, как дивизия ощетинилась. Я бы сказал, что комсомольцы брали пример с коммунистов и выдержали проверку огнем и кровью, не согнулись, не пали духом, научились бить врага. «Дом Павлова», снайперы, десантники, переправы — все это такие поистине красивые события и дела, что о них можно стихи писать.
И в самом деле, как не вспомнить «дом Павлова»?!
Гвардии сержант Яков Федорович Павлов, командир отделения пулеметчиков, служил в 42-м гвардейском стрелковом полку 13-й гвардейской стрелковой дивизии.
В конце сентября его вызвал командир роты, лейтенант Наумов.
— Товарищ Павлов, — сказал лейтенант, — для вас есть работа.
Он показал стоящий на площади дом. Задание — дом разведать, если удастся, то и занять.
— Сколько вам нужно солдат? — спросил Наумов.
Павлову, хотя он и был пулеметчиком, приходилось ходить и в разведку по тылам противника.
— Много людей не нужно, — ответил он, — но важно, чтобы солдаты были опытные, хорошей выучки.
В подчинение командиру отделения дали солдат Александрова, Глущенко, Черноголова. К ним присоединился и санинструктор Калинин.
Ночью Павлов со своими бойцами занял дом.
— Двигайся с донесением, — поручил он Калинину, — в роту или батальон, куда быстрей доберешься.
Калинин попал в штаб батальона в момент, когда там был командир полка Елин. Как и полагается по уставу, Калинин спросил у командира полка разрешения обратиться к командиру батальона Жукову.
При этом санинструктор сказал, что он пришел «прямо из дома Павлова».
— Такого объекта нет, — удивился командир полка. — Есть «Дом специалистов», «Дом железнодорожников», «Военторг», но «дома Павлова» нет.
С того момента «дом Павлова» стал постоянно фигурировать в боевых сводках.