Первым проснулся Андрей и, поглядев на безмятежно храпевшего Батурина, улыбнулся: «Спит после гостебы».
Братание началось и в других ротах. Фон Дитрих вызвал к себе Фирсова.
— Приказываю прекратить братание с неприятельскими солдатами. Открывать по ним огонь, не жалея патронов. Вы меня поняли, господин подпоручик?
— Понял. Но это невозможно, — ответил Андрей невозмутимо.
— Почему? — сдерживая себя, спросил полковник.
— Братание солдат принимает массовый характер и идет по всему фронту. Вы, очевидно, об этом знаете, — сказал раздельно Фирсов.
Офицеры, находившиеся в халупе, насторожились.
— Не рассуждать! — фон Дитрих стукнул кулаком по столу.
— Прошу не кричать. Я вам не денщик, — круто повернувшись, Андрей вышел из штаба полка.
В крупных городах России начались забастовки. На фронте отдельные части отказались идти в наступление, и фон Дитрих, зная, что снятие Фирсова, за которого стояли солдаты, в данной обстановке невозможно, ограничился строгим выговором.
Андрей вернулся в блиндаж.
Епиха разжигал железную печурку, сырые дрова горели плохо, и он ворчал:
— Надоело вшей кормить в окопах. Скоро ли это кончится?
— Скоро, Батурин, скоро, — отозвался из угла сидевший на корточках Осколков.
— Скоро конец войне, — повторил Осколков и, повернув лицо к Андрею, спросил: — Ребят вызывать в блиндаж?
— Нет, сегодня не нужно, пускай отдыхают, — ответил тот. За последнее время вокруг Андрея стали группироваться революционно настроенные солдаты. Андрей радовался, что в полку положено начало крепкому ядру большевистской организации.
Через несколько дней после митинга ненадежный полк по настоянию фон Дитриха отвели в глубокий тыл, в район Пскова. Андрей Фирсов, как представитель солдатского комитета, находился в штабе полка.
Весть о свержении самодержавия дошла до Марамыша в первых числах марта 1917 года. К Никите Захаровичу примчался с заимки перепуганный Толстопятов.
Наспех привязав взмыленного жеребца, быстро поднялся наверх. Никита уже знал от сына историю со свиньей и не мог сейчас скрыть брезгливости. Нехотя подал руку и торопливо вытер ее.
— Осиротели, — овечьи глаза Дорофея были влажны. Вынув из кармана клетчатый платок, он оглушительно высморкался и, сложив руки на животе, с надеждой посмотрел на Фирсова. — Как таперича быть?
Никита по привычке забегал по комнате, полы его частобора развевались.
— Худо, Дорофей Павлович, худо. Сам не знаю, что делать. — Круто остановившись перед гостем, он заявил: — Остается, пожалуй, одно — надеяться на бога и добрых людей, — помолчав, добавил: — На днях говорил мне один человек, что господин Родзянко взял в руки власть. Сказывают, из наших, — Никита понизил голос до шепота. — Еще появился какой-то Керенский из присяжных. Может, наладится с властью-то.
— Дай, господь, — облегченно вздохнул Дорофей, — а я, признаться, оробел. Сам посуди, — как бы оправдывая себя, заговорил он, — пришли позавчера ко мне на двор эти самые голоштанники из переселенцев, давай поносить разными словами, Дашкинова парнишку припомнили, что свинья съела. «Конец, говорят, тебе будет скоро, толстопузый». Это мне-то, значит. Ну, я не утерпел. Сгреб централку — и на них. Всех, говорю, перестреляю! Пристав спасибо скажет. А они, слышь, сгрудились да к крыльцу. «Твоего пристава вместе со стражниками в прорубь пора, — кричат. — И тебя заодно!» На ступеньки поднялись. Что делать? Кругом степь, людей добрых нет. Я, значит, в избу, дверь на крючок. Покричали, покричали, да и разошлись. Старуху мою насмерть перепугали, а Феоньюшка, дочка моя слабоумная, в голбец залезла, втапор так и выманить не мог.
— Смириться надо, — ответил Никита, — на первых порах поблажку дать: скажем, насчет хлеба. В долг отпусти. А придет время, — глаза Никиты расширились, — так давнем, что кровь брызнет! — Фирсов развел узловатые пальцы рук и, сжав их, приблизился к Дорофею.
— Земли надо? Дадим, не поскупимся — по три аршина на каждого, — прошептал он зловеще, взглянув на киот, перекрестился.
— Страдал господь, когда шел на голгофу. Так, должно, и нам придется. Как у тебя с хлебом? — неожиданно спросил он Дорофея.



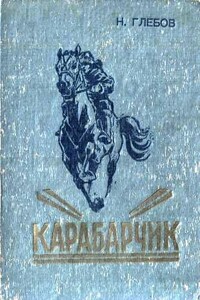


![Неоседланные лошади [Сборник рассказов]](/uploads/books/images/1c/1c16ca2920b359b5ad73cd59634fdad6e7101e6f.jpg)
