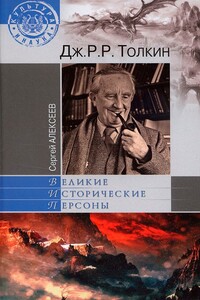Думаю, что значительную роль в таком предубеждении против евреев играло то, что евреев тогда продолжали еще идентифицировать с властью, к которой, естественно, были претензии у всех — справедливые, но подспудные. А у некоторых, может быть, ясные, но до конца не высказываемые. Таких я почти не встречал.
Но вот анекдот, проявляющий эту идентификацию вкупе с распространенным представлением об увертывании евреев от фронта.
Еврей горячо распинается о своей любви к советской власти.
— Так чего ж ты не идешь на фронт ее защищать?
— Не могу. Убьют — кто ж тогда будет любить советскую власть?
Разумеется, это анекдот о евреях. Однако и отношение к власти проступает в нем довольно отчетливое, без него нет никакого комизма. Но это анекдот. За всю свою симскую жизнь я только однажды видел человека, который высказывался прямо в этом смысле. Это был не кадровый рабочий, а мужичок в лаптях. Его, как и многих, «пригнали» сюда по мобилизации. Вроде работать на войну (он был еще крепок, но в возрасте), а оказалось — неизвестно для чего. «Какая работа! — возмущался он. — Тут концов не найдешь, ночью спать толком негде!» Но все это было, как говорится, в пределах нормы. Пока кто-то не спросил, откуда пригнали. Последовал ответ:
— Да за Шадринском живем.
— Давно там?
— Да с 31-го года.
— Так вы что — раскулаченные?
— Да, раскулаченные мы… Раскулачили нас… Оттого-то теперь всего много…
Помню отчетливо — пасмурный, слякотный день, мужика этого у заводоуправления рядом с проходной на дощатом тротуаре — в лаптях, высокого, крепкого, одетого бедно, но как-то очень пригнанно и сноровисто — для любой работы. И эти его слова, неопровержимо разрушающие все мои идеологические устои. «Раскулачили нас… Оттого-то теперь всего много» — это о более высокой форме производственных отношений!
Как я должен был это воспринять при своем Маяковском «Штурм унд Дранге», пафосе новой жизни и тому подобных глупостях? Как вылазку классового врага? Как просто всплеск классовой ограниченности и частнособственнической стихии? Или как выраженный «идиотизм деревенской жизни» по Марксу?
Но мужик ни вылазками, ни пропагандой не занимался, был раздражен конкретными обстоятельствами, а сказал это потому, что к слову пришлось. И идиотом он тоже не был — сказал правду.
Она разрушала мировоззрение, но я, как видел читатель в предыдущих главах, тогда несколько притих со своим мировоззрением, все-таки жизнь влияла на меня. Не то чтобы я отказался от прежних идеалов (Сталина я не любил, но колхозы по ошибке и неведению считал делом разумным, как все коммунистическое), но какие-то процессы во мне шли. А тут все было наглядно: и насколько «всего много», и даже почему это так. И даже что этого мужика оторвали от дела, где он был голова, и заставляют мучиться и мыкаться.
В цеху таких обобщений я не слышал. И разговоры об евреях не были связаны с ними. Было и такое: «Конечно, при царизме евреев притесняли, и они держались друг за друга, но теперь-то все по-другому, так какого ж хрена?» Того, что опять началась государственная дискриминация, что дело дойдет до «убийц в белых халатах», мы тогда не подозревали — ни они, ни я. Речь шла о замкнутости. На нее вообще очень жаловались.
Мне это было не совсем понятно. Я-то сам был человеком открытым, и все, с кем я общался в Киеве, тоже замкнутостью не отличались. Вероятно, это было впечатление от общения с прежними поколениями, болезнь притирания, недопонимания. Но разговоры и недоумения эти были искренними, желание меня обидеть или мотив травли исключается. А между тем само собой понятно, — более удобного объекта для антисемитской травли, чем я, в цеху не было. Там были еще евреи, но те умели работать, один даже был слесарем-лекальщиком восьмого разряда с большим стажем. А я был непонятно кто. Однако никто не травил, в основном все были дружественны, а разговоры были. И заставляли думать.
Но, разумеется, еврейская тема не была главной в наших беседах. Говорили о разном и разное. Даже в приведенном мной обличении еврейской замкнутости проскальзывает другое отношение к власти («при царизме их притесняли, а теперь они чего…») — как к началу справедливости, противоречащее тому, о котором я говорил раньше (как к чему-то, чего никто, кроме еврея, не любит).