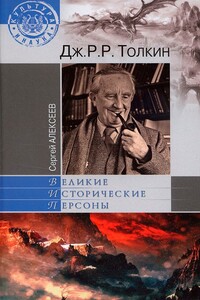Разговоры с рабочими были мне намного интересней. Я тогда не думал о том, что теперь называется социальным статусом, но если бы и думал, то все равно — труд рабочего, особенно квалифицированного, казался мне более полезным фронту, а его положение — куда более достойным и даже менее зависимым, чем положение газетчика, особенно заводского. Так оно и было. Мне очень хотелось быть таким, как все тут — умелым, уверенным в себе, вполне оправдывающим свою жизнь. Короче, все в цеху мне очень нравилось — кроме собственной неспособности, которая проявилась довольно скоро. Но когда я впервые пришел в цех, я еще то ли о ней не знал, то ли надеялся ее преодолеть — значит, не представлял ее масштабов.
А все, казалось бы, шло навстречу этому моему желанию. Учителем моим был очень квалифицированный рабочий, фрезеровщик восьмого (самого высокого тогда) разряда Анатолий Семин. Работал Толя (так он мне представился, так его и звали в цеху) на чуде тогдашней германской техники, новейшем, очень точном, универсально-фрезерном станке фирмы «Тиль», приобретенном в недолгие месяцы нашего романа с Гитлером. В цеху вообще было много заграничных станков — были еще токарные станки «Кергер» того же класса и происхождения, были американские фрезерные фирмы «Гордон», шлифовальные (фирмы не помню) — целая расточная мастерская, состоящая из станков швейцарской фирмы «СИП», — всего не упомнишь. «Иностранщиной» тут явно не брезговали. Достижение пятилеток — токарный станок «ДИП» («ДОГНАТЬ И ПЕРЕГНАТЬ») вызывал только насмешки, использовался для более грубых, обдирных работ.
Но, как я уже говорил, для меня в смысле профессии и Толя Семин, и «Тиль» были не в коня корм. Как говорится, «ему б чего-нибудь попроще», какую-нибудь бы менее творческую специальность — может, и освоил бы. А здесь было дело гиблое. Надо было бы мне тогда лучше чувствовать границы своих возможностей, но на это, к сожалению, я тогда еще способен не был.
Я говорю «к сожалению», но только потому, что мне и задним числом неловко перед людьми, перед тем же Толей Семиным за то, что они зря ухлопали на меня время. Для меня же самого, для моего внутреннего развития пребывание в этом цеху с ними было в высшей степени значительным и плодотворным, хотя и не в плане профессионально-техническом. Правда, и тут я получил представление о том, что это вообще такое — производство и как в принципе делаются вещи, о чем я имел до этого какое-то странное, абстрактное, чуть ли не мистическое представление. Разумеется, это значительно расширило и мой общий кругозор, укрепило под ним фундамент. Но то, что я там приобрел в чисто человеческом плане, столь важно для меня, что я себя не представляю без этого опыта. Хорошо, что моя взрослая или полувзрослая жизнь началась именно там.
Кроме того, мне просто нравились люди, которые меня там окружали. Внешне они не были похожи на героев Агапова, но в целом я не считаю, что он меня обманул. Я и теперь считаю, что по-настоящему квалифицированные рабочие, люди, способные своими руками сделать все, что захотят, — «высшая раса».
В этом есть еще одна сторона. Я очень рад, что по-настоящему Россия стала мне открываться именно здесь, среди этих людей. При всем различии их характеров и представлений, было в них в целом нечто такое, из-за чего потом любая напраслина о России и о русском народе дома и за границей отскакивала от меня, как от стенки горох — для меня Россией всегда были они. По-настоящему Россию я впервые полюбил там и тогда, да так, что ни в каких самых жестоких обстоятельствах в этой любви не поколебался.
Хотя момент, казалось бы, меньше всего подходил для этого. Все мы жили впроголодь, а немцы опять наступали. Это порождало общее ощущение ненадежности бытия, мутное брожение. Выражалось оно в первую очередь, как уже говорилось, в неоправданной злости против ближайшего начальства, но доходило и до пораженчества. В том плане, что «вот придут немцы, мы им!..» Но это, как я потом убедился, было неглубоко, больше раздражение так разряжалось.
Как ни странно, хотя многие рабочие происходили из крестьян, тема коллективизации не очень дебатировалась. При той свободе самовыражения, которую позволяли себе рабочие, я просто не помню разговоров на эту тему. Слово «кулак» иногда употребляли, но только для определения характера, и всегда в советском уничижительном смысле: человек, у которого зимой снега не выпросишь. То ли, став рабочим классом и мастерами индустрии, уважаемыми людьми, похоронили они это свое прошлое как нечто постыдное, опасное и неразрешимое, на дне сознания, да так, что и теперь не вспоминалось (как, в сущности, поступила с этой темой вся страна), то ли по какой другой причине, но таких разговоров не было — даже в пору самых крупных немецких успехов.