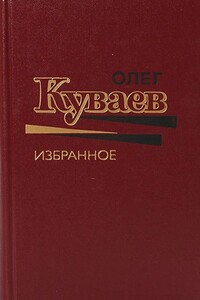— Как он поживает… Алексей?
— Соответственно. Голова седая, а сердце молодое. Работает не покладая рук. Врагов не имеет. Друзей — навалом.
— Не женился?
— Что ты! Алексей принципиальный холостяк. Ты это должен знать лучше меня.
— Да, знаю. Видел я его мельком в аэропорту. Кого-то встречал.
— Мельком видел?.. Только и всего?
— Не по моей вине так получилось. Не захотел Алексей ни поговорить, ни даже поздороваться. Демонстративно отвернулся.
— Это почему же? — удивился Егор Иванович.
На вопрос я ответил вопросом:
— Ты что, дружишь с ним?
— Я ж тебе сказал — он со всеми в дружбе.
— Не со всеми. Меня вот люто ненавидит.
— Не может быть! Алексей, это самое, не умеет ненавидеть людей.
— Умеет. Еще как! Более сорока лет не жалует меня. Неужели тебе, своему другу, не рассказывал о наших с ним отношениях?
— Не слыхал ничего такого. А что вы не поделили?
— Любовь! Одну прекрасную девушку любили, а она… Она сначала его любила, потом меня. Я про Лену Богатыреву говорю. Помнишь?
— Как же! Первая наша комсомолка. Славная была девушка. Рано, бедняжка, умерла. С Олей Булатовой дружила. Ну что, поедем?
И мы покатили дальше. Я задумался — прошлое снова нахлынуло на меня. Какое бы оно ни было, хорошее или плохое, седому человеку все равно не по себе становится, когда оглядывается далеко назад. Казнится, что жил неумно, бездарно, ниже своих возможностей, не сберег то, что следовало беречь пуще глаза, — чистую свою душу. Печалится, что прекрасная, гордая юность так быстро пролетела, что необратим ни один ее день, что навсегда утрачено величайшее преимущество, преимущество молодости, перед которой все дороги открыты, которая все может сделать, если того захочет по-настоящему.
Обогнали автобус, закрывавший нам дорогу, и увидели первые высотные дома города, белые, с большими окнами, полными жаркого полуденного солнца.
— Вот мы и дома! Через пять минут будем в больнице у Булатова. Он приказал привезти тебя к нему.
— Что ты! Не поеду. Видеть больницы не могу. Сам больше двух месяцев валялся. Живым меня теперь туда силком не затащишь. Так и скажи Булатову.
— Понятное дело, это самое. Отставить больницу!.. Держу курс в гостиницу «Березки». В бывший коттедж Головина. Слыхал я, ты любил там жить. Губа не дура. Много зелени. Соловьи на заре спать не дают. И Солнечная гора под боком.
Слушать Егора Ивановича удовольствие. И смотреть на его моложавое лицо с седыми бровями приятно. Вот старость, достойная восхищения и зависти. Она зиждется на том, что было заложено в юности. Большевиком он стал в семнадцать. В двадцать возглавил революционный Совет родного города. В двадцать два командовал броневым дивизионом на фронте. В тридцать с чем-то стал первостроителем мирового комбината.
Егор Иванович несет бремя своих лет без труда, весело. И в сто лет будет радоваться жизни. Он и меня принимает за вполне благополучного человека, а я…
Жизнь льется мне в грудь, вызывая радость и тоску. Мир прекрасен, вечно юн, бессмертен, а я…
— Ты чего это приуныл, Саня? Где ты?
— Я здесь, Егор Иванович. Задумался, глядя на родную землю. Хорошо! Все прет к свету, цветет, живет!
— Так оно и есть. Слушай-ка, Саня, правда, что ты Золотую Звезду заработал на войне?
— Правда.
— А почему не носишь?
— Потерять боюсь…
— Ну, а если по правде?
— Можно и по правде. Золотую звездочку трудно носить. Героем себя все время чувствуешь, все время вроде бы празднуешь. Работать некогда…
Егор Иванович засмеялся.
— Да ты шутник. Как и в молодости!
— Эх, Егор Иванович!.. И твои подвиги на Севере можно ценить на вес золота. Остаться человеком там, где многие теряют человеческий облик, — это ли не подвиг?
После долгого молчания он сказал чуть приглушенным голосом:
— Иначе и не могло быть, Саня. Человеком я вошел в нашу советскую жизнь, человеком прошел через все испытания, человеком и уйду. Так нам, большевикам, на роду написано! Все! Не будем больше говорить на эту нелегкую тему.
Не будем.
Неожиданно для меня он поехал не прямо по Кировской, вдоль высоченной стены комбината, а круто свернул направо, в гору, на просторной вершине которой раскинулся наш старый, времен тридцатых годов, соцгород.