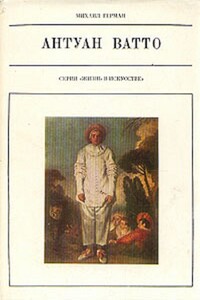О Париж
Главный вокзал платформа желаний перекресток тревог.
Блез Сандрар
Но Париж, как говорил Хемингуэй, никогда не кончается. Да и начала его не различить.
И книжку о Париже, в сущности, дописать нельзя.
Каждая новая встреча с ним задает новые вопросы, рождает сомнения, их все больше, и все меньше я нахожу ответов, и французское суждение касательно того, что мудрость начинается с сомнения, уже не утешает меня. Любовь можно объяснить кому угодно, но не себе.
Скажу еще и еще раз: у моих восторженных суждений о Париже, как я и предполагал, оппонентов больше, нежели сторонников. И среди парижан, и среди приезжих. Для парижанки или парижанина, которые ежечасно борются здесь за выживание и преуспеяние, сохраняя бодрость в сердце и улыбку на губах, их город действительно поле битвы, и восхищение его прелестью и нравами вряд ли будет ими сочтено чем-то иным, кроме как наивностью приезжего. Что делать. Я знаю далеко не все, о многом лишь догадываюсь, но это не может помешать мне любить Париж и его обитателей.
Достаточно почитать книги и посмотреть хотя бы фильм «Les Ripoux»[101] с Филиппом Нуаре, чтобы избавиться от излишних иллюзий по поводу французских полицейских. Но даже верхний, чисто формальный стиль отношений граждан с властью, когда к жалкому уснувшему клошару ажан обращается «мсье» и, разумеется, на «вы», когда даже в процессе проверки документов накурившегося наркомана и полицейские, и тот, чьи бумаги читают, естественным образом обмениваются улыбками, когда весьма агрессивные и совершенно непреклонные контролеры в автобусе приветливо здороваются с каждым, кого просят предъявить билеты, – этот стиль кажется мне немаловажным свидетельством социального приличия.
Я ни разу не слышал (может быть, мне так повезло?), чтобы на улице родители грубо обращались с детьми, оскорбляли их окриками или тем паче бранными словами; и даже пятилетнюю дочку, прокомпостировавшую автобусный билет, мама благодарит уважительно и серьезно.
Я люблю эти усталые, но смелые лица утреннего Парижа, оживленные блеском глаз: «у меня есть работа!». И благоговейное уважение вызывают пусть небогато, но тщательно и с хорошим вкусом одетые пары лет восьмидесяти, идущие вечером в ресторан или в гости, держась за руки или просто поддерживая друг друга. Нет, я не думаю, что в Париже мало бед, болезней и нужды, но сколько же здесь и иного, того, чем можно любоваться.
Когда в ресторане в ответ на немудреную шутливую просьбу принести «une petite addition» («маленький счет»), усталый, но веселый гарсон, поколдовав у кассы, умудрился принести мне счет на 33 333 евро с пометкой «наличными», все, кто обедал рядом, дружно веселились. Готовность посмеяться – она основывается не столько на остроумии («маленький счет» – куда уж наивнее!), но на желании обменяться улыбками, поддержать стремление к веселью, получить и отдать толику удовольствия, напомнить себе и другим: «La vie est belle!»
Конечно – легко находить прекрасные качества в том, кого любишь.
Но – заметьте!
Разве не удивительно и не прелестно то, что самое ценное и значительное в Париже не стоит больших денег, а то и достается даром: вино за стойкой дешевого кафе, поездка на автобусе, улыбка прохожего, шутка гарсона в брассри, отблеск неба на золотой гирлянде, украшающей черный купол Института! Любовь к этому «ценному и значительному», к этому самому «la vie est belle!» уравнивает людей, как всякая общая страсть. Бескорыстный культ удовольствия, дарящего едва ли не равную радость «снобинару», пробующему коллекционное вино в родовом замке, и завсегдатаю брассри «Le Naguère», что смакует