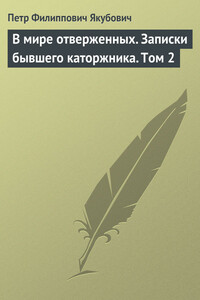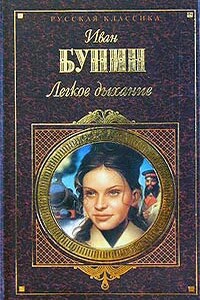Слова эти сказаны были с такой, свойственной всем речам и поступкам Комлева, простотой и отсутствием всякой бравады, но в то же время с такой внутренней силой и энергией, что, признаюсь, я залюбовался этим человеком. Он и во всей истории своего «отбоя» держался в высшей степени просто, без той вызывающей шумливости, которою отличалось поведение его союзника и приятеля Петина. Последний, отказываясь от работы, каждый раз считал нужным рычать, жестикулировать, угрожать и словами и жестами. Комлев, напротив, преспокойно лежал на нарах, дожидаясь, когда дежурный, подобно бешеному зверю, прибежит звать его на работу.
— Комлев! Тебя долго еще ждать? Все выстроились, стоят под воротами, а тебя все нет. Живой рукой собирайся!
— Куда? — медленно, равнодушно, не возвышая голоса, спрашивал Комлев.
— Как куда? Говорят тебе, на работу.
— Я не пойду сегодня!
— Как не пойдешь? Ты разве нездоров?
— Нет, здоров.
— Так ты что ж это? Шутки со мной шутить вздумал, аль в карец захотел?
— В карец — так в карец. Пойдемте, — отвечал он тем же ровным голосом, подымаясь с места, и шел в карцер.
Сохатый был не таков. Несмотря на его шумливость и внешний задор, было очевидно, что он куда «дешевле» Комлева; сознавали это и арестанты и надзиратели. Не замедлил подтвердить это фактами и сам Петин. В то время как Комлев непреклонно и неустанно продолжал гнуть одну и ту же линию, требуя перевода в другую тюрьму, отказываясь от работ и не пугаясь даже перспективы плетей и розог и тем внушая начальству серьезное к себе уважение и страх, Петин в самые критические минуты, когда дело принимало серьезный оборот, каждый раз трусил и отступал: плетей и розог он ужасно боялся… Поэтому в поведении его не было никакой последовательности: то он был лодырем и грубияном, стоял на дурном счету у надзирателей, то превращался в ретивого работника и тихого, покорного арестанта. Начальство видело, что он не опасен и что страхом можно с ним все сделать.
Наш старый знакомец Семенов был также из числа тех, которые мечтали отбиться поскорее от Шелайского рудника, и, подобно Комлеву, не дрогнул бы ни перед какими мерами и угрозами Шестиглазого. Но ему оставалось меньше года до выхода в вольную команду, и вел он себя чрезвычайно сдержанно и благоразумно. Тем не менее совершенно для всех неожиданно, а больше всего для самого Семенова, разыгралась история, выставившая его в глазах начальства одним из наиболее опасных и нежеланных для Шелайской тюрьмы обитателей.
Летние ночи были страшно коротки. В восемь часов вечера производилась поверка; в случае присутствия на ней самого Лучезарова она тянулась не меньше часу, и заснуть удавалось не раньше десяти. В половине четвертого утра уже раздавался свисток надзирателя с призывом приготовляться к новой поверке. Истомленные работой и плохим питанием арестанты встают, бывало, как дикие, с отяжелевшими глазами, отказывающимися глядеть на свет, с болью в висках, с ломотой во всем теле, Но надзиратель Безымённых, от всей души ненавидевший арестантов и на каждом шагу любивший им «пакостить», в дни своего дежурства сокращал даже и это недостаточное для сна время. Еще в совершенной темноте, в два или три часа ночи, он ходил уже под окнами камер, стучал в них изо всей силы кулаками или даже ключами и, будя всех, кричал нечеловеческим голосом:
— Староста! Лампы тушить!
Семенов был в это время старостой в одном из номеров и однажды так крепко спал, что не услыхал даже и этого адского стука. Через двадцать минут Безымённых подошел к дверной форточке и, видя, что лампа все еще не потушена, принялся барабанить пальцами по стеклу и громко называть Семенова по имени. Но тот продолжал спать как убитый, молодым богатырским сном. Другие арестанты, отпуская насмешливые остроты из-под своих халатов, притворялись тоже спящими и не двигались с места.
— Ну ладно, я ж покажу тебе, мерзавец! — сказал Безымённых, потеряв терпение и отходя прочь.
Когда наступила утренняя поверка, арестанты почему-то забыли предупредить Семенова о случившемся, и Безымённых без всяких объяснений повел его в карцер. Ничего не подозревавший, ошеломленный Семенов молча повиновался, но когда пришел в карцер и узнал, в чем дело, то, пользуясь отсутствием свидетелей, со страшной бранью и стиснутыми кулаками бросился на врага. Безымённых едва ноги уволок и еле успел затворить за собой на задвижку дверь карцерного коридора. Он побежал к старшему дежурному докладывать о покушении Семенова на его жизнь. Немедленно явился в карцер конвой. Семенова заковали в наручни и посадили в строгое одиночное заключение. Ожидали, что ему дорого обойдется эта история… Закадычный друг Семенова старик Гончаров ходил мрачный и задумчивый.