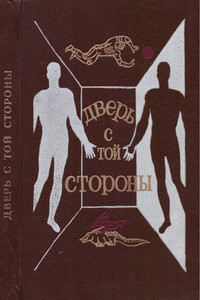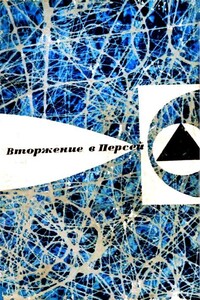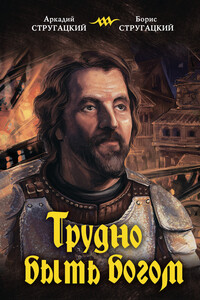Стол был застлан газетами, под которыми ощущались вогнутости и выпуклости.
— Я тебя сейчас буду кормить… Ты никуда не спешишь? — Она посмотрела на меня с затаенным ожиданием, как будто хотела, чтобы я куда-нибудь спешил. — У меня все по-холостяцки. Прости уж, — сказала она, откидывая газеты и раскрывая залежи на столе. Тут были открытые коробки шпрот и сардин, латка с недоеденной тушенкой, плетеная корзиночка с хлебом, надкусанный эклер, кувшинчик со сливками. Она попробовала пальцем кофеварку. — Еще теплый. Иди умойся… Нет охоты прибираться: поздно придешь, а утром — каждый день репетиции, перед выпуском. Одна. Раза два был Лео. И все.
Она пользовалась этим правом быть искренней и рассказывать мне все. И я был рад этому и с благодарностью принимал ее признания. В этом мне чудилась даже какаято прочность нашей любви. И все же мне не верилось сейчас, что она совсем откровенна, А самое неприятное — игра в откровенность. Это уж хуже лжи и хуже воровства.
Умылся. Сел, налил себе кофе и сливок. Подумал: она ведь никогда не пьет со сливками — только черный.
— Ты пьешь теперь со сливками? — И пожалел, как будто шантажировал. Она покраснела.
— Нет. Это Лео. Как раз сегодня утром был Лео.
Когда она сказала «раза два был», — за этим звучало — был вообще, но не вот только же. А может быть, и ночью был? Да что это я — ревную? Нет, не хочу лжи. Мне кажется, я мог бы простить, если что и было между ними, но мне нужна только правда? Как же: сам говорил, что она имеет право и не сказать всего, если… чтобы не травмировать…
— Утром забежал, принес сливки и эклеры, говорит: знаю, будешь угощать кофе, на большее ты не способна, а я эту горечь не переношу. Он ведь сладкоежка. Это, конечно, смешно — в таком агромадном мужчине. Но он… большой ребенок.
— Ты уже говорила об этом.
— О чем?
— Ну, что он большой ребенок.
— Не придирайся. Ты несправедлив к нему…
Она стояла перед зеркалом, подводя голубым веки.
И только сейчас я понял, что она куда-то собиралась: ее плотно облегало дымчатое платье с широким стоячим воротом… Волосы схвачены заколками. Она распустила их, откинула на одну сторону, закусив заколки, и каштановая волна упала на плечо.
— Отращиваю! Знаешь, я вняла твоему совету — готовлю Офелию. Покажусь художественному совету. Что я теряю?!
— Ты молодец, — вдруг обрадовался я, кажется, поверив всему, что она говорила. Я хотел спросить, куда она собралась, но она взяла в горсть заколки и, прибирая волосы, опередила меня:
— Ты надолго?
Этот внезапный, как пуля из-за угла, вопрос, сбил меня с толку, мне показалось, что я мешаю каким-то ее планам.
— Да нет… заскочил… повидать… Вообще, нужно бежать. Много всякого…
— Ну вот всегда ты… — Мне показалось — она вздохнула с облегчением. — Подойди ко мне!
Она вынула из сумочки платочек, обтерла мне губы.
— Ты только знай… что бы ни случилось между нами, ты мне всегда будешь нужен. Ты — главное в моей жизни!.. Даже если ты меня бросишь… не сейчас, так потом… я приползу к тебе на брюхе, как кошка.
Она смотрела на меня серьезно и даже трагично, и глубоко в зрачках ее стыло смятение.
— Но почему ты сейчас… вдруг мне говоришь об этом?…
— Но это правда. Просто мне подумалось: ты — главное!
«Ты — главное» — такая клятва была, конечно, если и не убедительна, то приятна…
— Дим.
— Да.
— Если я тебя очень попрошу. Очень.
— Что? — Я очнулся от какой-то глухоты.
— Сейчас, что бы тебя ни держало, пойдем со мной… Не спрашивай — куда, — опередила она мой вопрос. — Пожалуйста. Мне это очень важно! Я уже опаздываю.
— Но, может быть, совсем не обязательно, чтобы я шел? Я не входил в твои планы?
— Брось. Совершенно обязательно! Совершенно!
— Я рад… рад, — растерянно и с сомнением проговорил я.
Она подала мне пальто. Сама быстро оделась. Потянула меня за руку.
— Мы уже опоздали.
Куда можно опоздать? Театр — премьера, прогон? Офелия? Гертруда?
— Такси, такси!
И вот мы возле парадной. Вывеска: «Всероссийское математическое общество». Вот оно — Лео! Конечно — Лео! Опять — Лео. Кругом — Лео!
— Лео? — спросил я.
— Ты обещал ничего не спрашивать.
И опять потянула меня.
Гардероб был полон. И потому наши пальто свалили Куда-то в общую груду. Она повела меня энергично и уверенно, как циркач по канату, по узкой мраморной лестнице, на третий этаж, затем по полукруглому коридорчику и остановилась перед полуприкрытыми дверями, в которые был виден набитый доверху людьми амфитеатр-колодец. Тонкое лезвие прожектора было направлено на просцениум. На нем монументально, широко расставив свои ноги атланта, стоял Лео. Шелковисто, просвечивая розовым, поблескивала от яркого луча белобрысая щетинка его волос. Он облизывал свои лоснящиеся нежные губы, трогал себя за припухлый подбородок. Был слышен рокот его голоса, но слова были стерты, и только обрывки фраз прорывались сквозь общий гул: «…очевидно, что для всякого натурального ряда… квазиосуществима последовательность…»