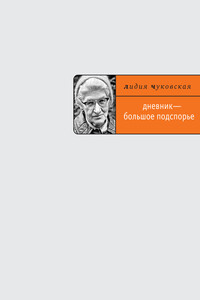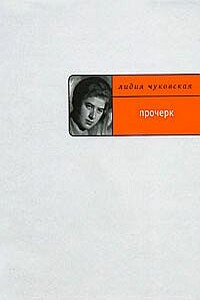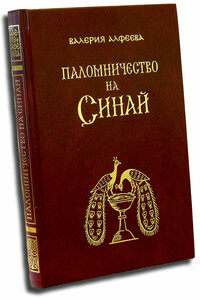В лаборатории редактора - страница 26
«Обращаясь к обвинениям его Бакуниным в стачке с Ключниковым».
Или:
«Древние китайцы утверждали, будто поглощение человеком жемчуга дарует ему долголетие».
Или:
«Во второй картине пьесы – выражение маленькой королевой желания получить подснежники в январе. В третьей картине – отправление мачехой и ее дочкой падчерицы ради богатой награды в зимнюю ночь в лес».
Или:
«Кормящая мать – старинное название высшей школы лицами, ее окончившими».
«Поглощение человеком жемчуга», «обращаясь к обвинениям Бакуниным», «выражение королевой желания», «отправление мачехой падчерицы», «название школы лицами»… Нельзя себе представить, чтобы кто-нибудь мог говорить так. Разве что иностранец, никогда не слыхавший, как говорят по-русски, изучавший язык чисто теоретически. Оборотом речи такой оборот не назовешь – скорее это оборот пера. Почему же, если так никто не говорит, можно писать так? Разве современный литературный язык уже утратил свои связи с живым? Разве формы его мертвеют, превращаются в искусственные, в жизни неупотребимые? Разве связь между литературным языком и живым не крепнет, а слабеет? К счастью, ведь это не так. Выкованный из народного языка великими мастерами, русский литературный язык не утратил своей связи с живым разговорным. Напротив. «Русский литературный язык ближе, чем все другие европейские языки, к разговорной народной речи»[97], – писал замечательный знаток языка А. Н. Толстой. Эту плодотворную, плодоносящую связь необходимо развивать и беречь. А бережем мы ее плохо. Искусственные, неестественные, сугубо отвлеченные обороты часто встречаются в наших рукописях и проникают в книгу – а из книги в живую речь, – иногда по нерадивости редактора, иногда потому, что редактор бывает пересилен нескладицей, постепенно утрачивает способность замечать ее, как отравленный газом не замечает запаха газа. Редактор литературоведческой статьи с удивлением поднимает голову только в случаях, так сказать, ЧП, «чрезвычайного происшествия», когда, например, пристрастие к творительному падежу приводит автора уже на вершину уродства и зауми:
«Передача себя Ивановым в руки царских чиновников состоялась в мае того же года».
Или:
«О своем сомнении в его получении адресатом он известил позднее».
«Передача себя Ивановым»! «Сомнение в его получении адресатом»! Неужели это русская речь? Неужели написать: «Он усомнился, получил ли адресат его письмо» – будет менее научно? Неужели люди, отдающие жизнь изучению русской литературы, так плохо слышат и так мало любят ее?
У каждого литератора есть верный, надежный (хотя, разумеется, далеко не единственный) способ добиваться ясности, понятности слога, естественности интонации: «писать вслух», то есть, работая, перечитывать вслух, постоянно «примеряя» написанное на живую речь.
Главная «задача в развитии литературного языка состоит в приближении его к пониманию широких масс, – писал А. Н. Толстой. – Язык литературный и язык разговорный должны быть из одного материала. Литературный язык сгущен и организован, но весь строй его должен быть строем народной речи»[98].
Слова эти – ключ к работе над текстом так называемой деловой прозы – любой, публицистической или научной. Ее синтаксис – не терминология, не словоупотребление, а именно синтаксис должен соответствовать строю живого языка, не должен от него отрываться. В строе речи, в единстве строя устной и письменной речи тайна живой связи между языком литературным и народным. И тайна доступности. Убеждая другого, разъясняя, растолковывая другому свою мысль, говорящий невольно строит свою речь с совершенной естественностью, вносит в нее горячие, действенные, искренние интонации. Естественность течения устной речи, убедительность ее интонаций – вот чего обычно добивается мастер от речи письменной. Это надежное лекарство против склеротического омертвения синтаксиса в литературном языке, против того, чтобы литературный язык превращался в далекий от жизни, нарочито книжный, искусственный.