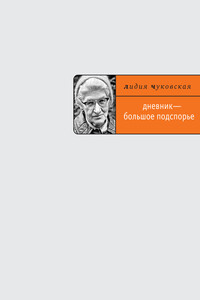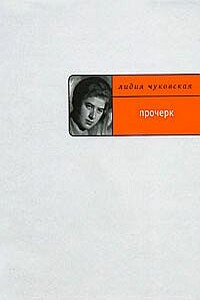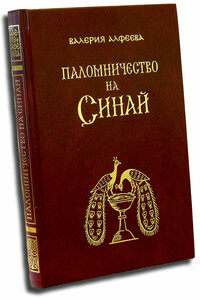Когда я приехал на гумно, то стал в уголок между копной оплавок и ометом соломы. Вокруг никого не было, и я дал волю подступившим слезам.
Поднималась метель, в воздухе перед моими глазами метались по ветру снежные хлопья, покрывавшие холодной белой шалью гумна, крыши, сады, огороды и дорогу, идущую от дома. Дорога скоро исчезла под мертвым покровом – исчезла вместе с ниточками желтой соломы.
Стонала и выла разыгравшаяся пурга, выл и я вместе с ней, сотрясаясь от рыданий.
Низкое небо было затянуто мутно-серым пологом, и не было видно вдали горизонта.
Трудно определить, почему ощущение безусловной правдивости, уверенность в том, что все было именно так – так мальчик убирал двор, так отец толкнул его, так он упал, так он стоял потом «между копной оплавок и ометом соломы», стоял и плакал вместе с вьюгой, – охватывает читателя сразу, с первых же строк? Переходя от тех рукописей к этой, чувство испытываешь такое, словно из царства приблизительности мгновенно переселяешься в царство точности, от словесной какофонии – к слову в строю. Редактор может быть человеком молодым, знающим быт дореволюционной деревни лишь по книгам; он может быть и человеком городским, вовсе не знающим, так ли затягивали петлю на оглоблях и что такое оплавки… Но почему-то, читая, он верит каждому движению мальчика, неумело ковыряющего навоз, каждому движению отца, затягивающего петлю на оглобле, верит в такой степени, в какой только что не верил Бальжит, включающей радиоприемник, и беседе тети Нины с Екатериной Николаевной.
Откуда это ощущение правды? Создается ли оно точностью, конкретностью изображения? «…Он взял один конец [веревки] в зубы, другой – в руку и стал затягивать петлю, а обухом топора… стал колотить по узлу петли, чтобы она туже затянулась»; «Дорога скоро исчезла под мертвым покровом – исчезла вместе с ниточками желтой соломы»…
В чем сила, прелесть отрывка? Создается ли она предметностью изображения? Вот этими ниточками желтой соломы? Да, конечно. Однако не только ею. Если бы отрывок был силен точностью только предметной, он имел бы всего лишь этнографическую, а не художественную ценность. Он не волновал бы, не трогал. Но тут достоверность подробностей труда и быта проложила дорогу достоверности психологической, а ритм подтвердил эту достоверность. Все дело в том, что под зорко увиденными чертами быта бьется столь же отчетливо расслышанная нота горечи, сдержанное рыдание мальчика, которое вырывается наружу в конце. Сначала оно почти не слышно, оно таится где-то под текстом, а к концу становится звучным, вырываясь из-под текста наружу. «Стонала и выла разыгравшаяся пурга, выл и я вместе с ней…»
«Нужно рисовать людей и события, – говорил Короленко, – а чувство должно рождаться у читателя само, из этих описаний»[54]. Автор с большою зоркостью описал мелкие события этого утра, с большим количеством вещных, конкретных подробностей, сделавших достоверным и «чувство» – ту горькую злобу, с какой растоптанный нуждой человек топчет другого, срывает свое горе на беззащитном и ни в чем не повинном ребенке.
Можно ли на основе одного отрывка утверждать, что повесть непременно удастся автору, что она окажется читателю нужной, что ее необходимо печатать? Нет, нельзя. Конечно, нельзя. Ведь автор представил пока что всего только описание детства своего героя. Рядом с этой маленькой главой – о сыне и отце – там есть еще главы о деде: как дедушка чинит кадки, как дружит с мерином Яшкой; есть глава и о том, как «сам земский начальник» нагрянул в село с приставом и казаками для выколачивания недоимок и податей – и вот, под вопли, крики и ругань толпы, «вдоль села потянулись подводы, нагруженные холстами, самоварами, мешками с хлебом, свиньями». Казаки гнали овец, телят, коров, вели в поводу лошадей. «Дедушка сидел на бугре снега в проулке и смотрел вслед подводам и нашим овцам. Из глаз его капали слезы, стекавшие по морщинам лица на сверкающий на солнце снег». И лес, синей тучей темнеющий на краю ясного, весеннего неба; и молоток, которым дед осаживает обруч на кадке, и страшный день сбора недоимки; и день смерти деда – первой смерти, которую видит мальчик, – описаны с той же точностью и силой, с какой в приведенной главке изображены отношения сына с отцом и их работа. Но, несмотря на добротность всех описаний, можно ли быть уверенным, что с такой же силой, искренностью, точностью изобразит автор и самое главное в задуманной повести – рост сознания мальчика, путь юноши вместе с бедняками села к революции? Будут ли с такой же степенью характерности нарисованы герои революции, с какой изображены отец, дед, стражник? И деятельность организаторов, поднимающих крестьян на борьбу, окажется ли столь же наглядной, столь же убедительной, изображенной столь же конкретно и правдиво, как повседневная работа крестьян во дворе, в избе, в поле? Хватит ли, наконец, у автора исторических познаний, способности к обобщению, чтобы правдиво – не с бытовой точки зрения только, а с точки зрения современной исторической науки – изобразить крестьянские восстания в России накануне 1905 года? Или ему – на протяжении всей повести – удадутся только черты затхлого дореволюционного крестьянского быта?