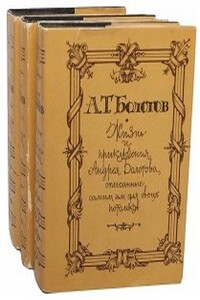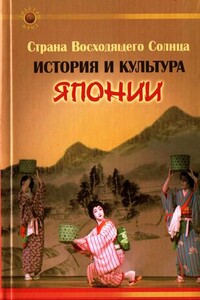Сим кончилась тогда наша прогулка; и как письмо мое уже велико, то окончу я сим и оное, сказав вам, что я есмь ваш, и прочая.
В КЕНИГСБЕРГЕ
Письмо 78-е 92
Любезный приятель! Между тем как армия наша возвращалась из своего похода и, расположась на прежних своих квартирах, от трудов своих отдыхала, а командиры помышляли о приуготовлении всего нужного к новому походу и к продолжению войны сей, мы в Кенигсберге продолжали жить по-прежнему, весело и в удовольствии. Не успела начаться осень и длинные зимние вечера, как возобновились у нас по-прежнему балы и маскарады. Первые бывали хотя и во все продолжение лета, однако не так часто, как осенью и зимою, ибо в сии скучные годовые времена не проходило ни одной недели, в которой бы не было у нас бала и танцев, без всякого праздника или особливого к тому повода, например, проезда какого-нибудь знатного боярина или генерала. Для сих обыкновенно делываны были у нас балы, а в праздничные и торжественные дни заводились многочисленные маскарады либо у губернатора в доме, либо по-прежнему, для множайшего простора, в театре. В сем наиболее бывали только маскарады, и мы впервые еще научили пруссаков пользоваться театрами для больших и многочисленных собраний и, делая над всеми партерами вносимые разборные помосты, превращать оные в соединении с театром в превеличайшую залу. Для меня самого было сие новое зрелище, и я сначала не понимал, как это делали, и удивился, вошед в маскарад и не узнавши почти того места, где были партеры. Одни только ложи доказывали прежнее его существование. Но самые сии и придавали маскараду наиболее пышности и живости, ибо все они наполнены были множеством зрителей и всякого народа, которого набиралось такое множество, что было для кого наряжаться и выдумывать разнообразные одежды. В сих старались тогда все, бравшие в увеселениях сих соучастие, друг друга превзойтить, и можно сказать, что в выдумках и затеях сих не уступали нимало нам и пруссаки, а нередко нас еще в том и превосходили.
Кроме балов и маскарадов, нередко занимались мы и самым театром. Комедианты не преминули опять, как скоро наступила осень, к нам приехать и увеселяли нас своими прекрасными представлениями, а кроме сих посетил нас в сию осень и разъезжающий по всему свету эквилибрист, или балансер, и увеселял несколько раз всю нашу небольшую публику на театре показыванием нам своего искусства в фолтижированье и балансировании разном. Сие зрелище было для меня также новое и никогда еще до сего времени не виданное, и я не мог оному довольно насмотреться и надивиться тому, как может человек делать такие удивительные изгибы и перевороты и так правильно держать себя в равновесии.
Итак, судя по частым и разным увеселениям сим, можно было тогдашнюю мою жизнь почесть прямо веселою. Она и была действительно такова и была бы для нас еще и приятнее, если б только генерал наш не посыпал иногда все наши забавы и удовольствия перцем и инбирем и в наилучшие наши веселости не вливал желчи по своему беспутному и до бесконечности горячему нраву. Несчастный характер его с сей стороны не можно довольно изобразить. Я упоминал вам уже прежде о странном и удивительном свойстве нашего начальника, почему почитаю повторять то за излишнее, а скажу только то, что все мы к браням и ругательствам его наконец так привыкли, что не ставили почти оные ни во что и вместо досады смеивались только, выходя из судейской, и друг пред другом хвастались тем, что более ли или менее раз были в тот день бранены. И к удивлению всех не знающих, посторонних людей нередко, сидя в канцелярии, спрашивали друг у друга, был ли кто в тот день в канцелярии и сколько раз, что значило: был ли кто в судейской и бранен ли был от генерала. И тогда иной говорил:
- Вот, слава Богу, я еще сегодня не был ни разу. А другой, вздохнув, говорил, что он уже раза три или четыре побывал в оной. Что касается до меня, то я хотя по должности моей и всех прочих меньше имел с ним дела, потому что все мои переводы и бумаги входили в руки к секретарям и советникам, а не к нему, однако принужден был и я пить такую же горькую чашу, как и все прочие, и хотя не так часто, как другие сотоварищи мои, однако претерпевать иногда также брани и ругательства. Поводом к тому бывало наиболее то обстоятельство, что он нередко употреблял меня вместо своего адъютанта. Всякий раз, когда ни случалось сему прихворнуть, а сие случалось довольно часто, принужден я был нести его должность, а особливо в праздничные и торжественные дни, и, разъезжая по всему городу, развозить поклоны, а накануне тех дней сзывать на бал или на обед все тамошнее дворянство. Сзывания и рассылки сии бывали иногда так велики, что и обоим нам с адъютантом едва доставало времени всех объездить и все нужное исполнить. И при таких-то случаях и терпели мы оба от генерала превеликие иногда брани, ибо как он был не весьма памятлив, то, позабыв, что иное приказал мне, нападает невинным образом на адъютанта; а иногда, приказав что-нибудь ему, а увидев меня, начинает спрашивать о том у меня, и как незнанием станешь оправдываться, то тогда и пойдет потеха, и мы только успевай слушать его брани и ругательства. В самых даваемых приказаниях бывал он как-то не всегда памятлив и постоянен. Часто случалось, что иного он совсем не приказывал, а после взыскивал, для чего было не сделано; когда же ему скажешь, что он того не изволил и приказывать, то бранил и ругал, для чего мы ему того не напомнили. А нам как можно было узнать, что у него на уме и что ему помнить надобно. Словом, взыскивания и брани, а временем и самые ругательства его были столь напрасны и мы претерпевали их столь невинным образом, что имели тысячу причин вовсе оные не уважать и вместо досады за то всему тому только смеяться, а особливо ведая, что брани сии никакого последствия не возымеют, но генерал, несмотря на все сие, остается к нам столь же благорасположенным, как был и прежде.