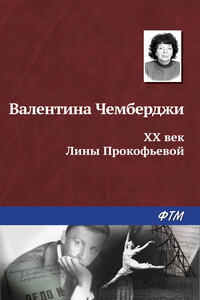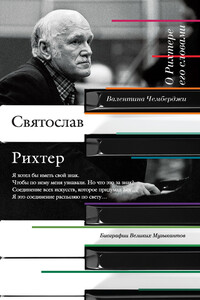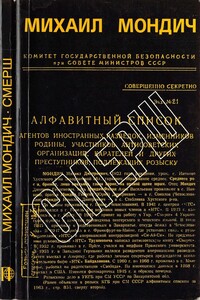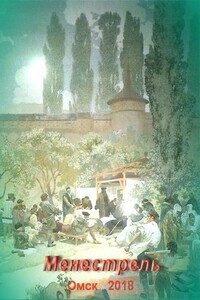Я, конечно, была совсем маленькая, но почти уверена в том, что в новом доме композиторов в эти два предвоенных года царили дружба и неподдельная радость общения. Веселье. Вот что запомнилось мне из тех первых лет.
Между тем это были одни из самых страшных лет отечественной истории. Впрочем, не весь ли двадцатый век…
Нашу семью война застала в Крыму, в доме Варвары Леонидовны Спендиаровой, куда мы приехали на лето. В ночь на 22 июня выла собака бабушки Вари, и бабушка сказала, что это плохая примета. А наутро объявили, что началась война. Конечно, совсем смутно помню, как в семье начались споры: бабушка Варя с сыном Тасей не хотели уезжать и не уехали. Их, как я уже писала, по семейным преданиям, расстреляли немцы. Тетя Ляля с дочкой Машей, мама, я, тетя Таня – все срочно выехали в Москву в переполненном поезде. Прекрасно помню обстановку общей паники в Феодосии, переполненное здание вокзала, растерянные лица, слёзы, неизвестность, – меня посадили около сваленных в кучу наших вещей – сторожить… Тогда-то и спасла меня тетя Ляля Спендиарова, прибежавшая за мной и часто впоследствии вспоминавшая, как на перроне, перед набитым до отказа поездом я произнесла: «Я, кажется, вступила в сырость»…
Москва, тревога, неизвестность. Мама не желает уезжать со мной в эвакуацию и оставлять папу в Москве. Она стоит над сундуком, растерянно перебирает какие-то вещи и очень определенно возражает папе. Но, несмотря на эту определенность, я чувствую почему-то, что на этот раз, как ни странно, папа одержит верх и мы куда-то поедем. Так и случилось. На вокзале в суматохе, неразберихе среди теряющих друг друга беспомощных родственников, очень аккуратно уложенные в полосатые наматрасники вещи Хренниковых, которые Клара Арнольдовна успела упаковать фундаментально.
Мы пробыли в эвакуации совсем недолго. В конце концов после обычных мытарств мы оказались в Уфе, в одной комнате с очень симпатичной старушкой. Туда приехал потом ненадолго папа и написал даже «первую башкирскую оперу» «Карлугас» («Ласточка»). Она долго шла на сцене уфимского оперного театра. Смутно помнятся мне в Уфе папин друг, веселый, быстрый дирижер «Петя» Славинский с каверзными дочерьми Фридой и Мурой, и Наталья Петровна Рождественская. Из личных впечатлений самое яркое – слово «строфа», красивое и совершенно непонятное. Книг не было, но у нашей хозяйки, старенькой бабушки, в чьей комнате нам выделили угол, как сейчас помню, нашлась хрестоматия для шестого класса, и в ней было это загадочное слово «строфа».
Еще помню разноцветные бархатные шнурки – потрясающую игрушку, которую мне подарила бабушка, и кусок сахара на весь день, который я честнейшим образом на весь день и растягивала. Вообще моя «примерность», наверное, была бы и вовсе противной, если бы одновременно я не была такой сорвиголовой во всем, что касалось детских забав, в особенности зимних, например, катания на санках с самых высоких и обледенелых гор и пр. Поэтому, помню, когда я, снова благодаря папе, вовремя читала «Детство Никиты», то просто кожей ощущала морозный воздух и счастье, испытанное Никитой, когда, встав утром, он обнаружил у крыльца новые, пахнущие свежим деревом санки. Ведь говоря о санках военной поры своего детства, я, конечно, имею в виду обыкновенную фанеру. Но то, что случилось потом, было хуже всякой фанеры. Потому что, когда мы уже вернулись в Москву, мне купили санки, но не нормальные, а с каким-то мягким стульчиком, украшенным бахромой, с высокой спинкой – в общем двухэтажные, которых я страшно стеснялась, считала позором. Уфу, в отличие от Свердловска, вспоминаю даже с нежностью. Может быть, из-за бабушки, или потому что мама много была дома, со мной, – холод был страшный, но у меня был мягкий продавленный диван, и после гуляния мне было очень уютно засыпать на нем, размышляя над таинственным словом «строфа».
Мы вернулись с мамой из Уфы в Москву в 1942 году, раньше всех в нашем доме. Помню, как в Уфе Наталья Петровна Рождественская увещевала маму не торопиться. Тут я должна сказать, что мама каким-то естественным образом, не задаваясь глобальными вопросами, чувствовала полную уверенность в том, что война – явление временное, что она скоро кончится нашей победой и все снова будет, как раньше. Когда папа, напичканный всей информацией, к которой имел доступ в силу своего положения, позволял себе высказывать опасения, мама презрительно называла его «паникером», и папа немедленно стушевывался.