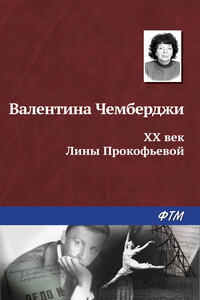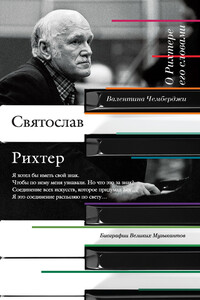В 1938 году композиторы въехали в свой первый дом, который и по сей день стоит на старой московской улице. В 1938 году эта улица носила свое исконное название – Третья Миусская, под стать Первой и Второй Миусской, Миусской площади и своим соседкам – Тверским-Ямским улицам и переулкам. Короче говоря, на Миусах, как говорили и говорят до сих пор москвичи.
Дом был построен архитектором Людвигом по проекту, созданному им специально для музыкантов: если посмотреть на фасад дома немного издали, видно, что он имеет форму органа, и этому способствует разная высота этажей, сплошь застеклённые до самой крыши пролёты лестничных клеток, оконные полусферы, стремительные вертикали, взмывающие вверх, подобно трубам органа.
Спустя некоторое время после войны улицу в честь чехословацкого главы коммунистического режима переименовали в улицу Готвальда. Это было для москвичей совершенно новое название, и, объясняя адрес, надо было каждый раз добавлять: «бывшая Третья Миусская». «Аааааа». «Чехизация» наших краев была вызвана местонахождением чехословацкого (тогда именно так) посольства и многочисленных сопутствующих ему учреждений, вызвавших волну дальнейших переименований в окрестностях: Гашека, Фучика и т. д.
И вот на пятом году перестройки Готвальда заменили на Чаянова. Замечательный ученый, идеалист, создавший продуманную теорию сельскохозяйственных артелей, верно служил отечеству, за что – никто не удивится – и был расстрелян в тридцать седьмом году. Не обрело покоя его светлое имя. Почти никто не знает, кто это. Теперь, когда называешь улицу Чаянова, обязательно надо добавить: «бывшая Готвальда». «Аааааа».
Почему не вернули улице принадлежность к славным Миусским, не догадаешься. Чиновничьи фантазии при всей своей незамысловатости логике не поддаются.
Итак, в памятном для композиторов старшего поколения (увы, почти никого из них уже нет с нами) 1938 году, счастливые и молодые, они въехали в свой первый дом (один из первых советских кооперативов). Въехали и в самом деле чуть ли не все жившие в ту пору советские композиторы. И поэтому я задала тогда свой известный вопрос: «Мама, а Петуховен в нашем доме живет?» Спустя долгое время кто-то рассказал об этом в моем присутствии как анекдот. Когда я запретендовала на авторство, то встретила некоторое недоверие. Уже не было в живых Лидии Антоновны Раковой – она с неиссякаемым удовольствием не уставала напоминать о моем вопросе и мне самой, и всем окружающим. Жившая в соседнем подъезде Лидия Антоновна, крошечная женщина, в прошлом балерина, жена профессора Московской консерватории Николая Петровича Ракова, преподававшего до самой смерти инструментовку на композиторском факультете Московской консерватории. О нем мне еще предстоит рассказать.
Упомянув слово «кооператив», я вспомнила и о том, как Сталин, когда дом уже был построен, вдруг расщедрился и вернул композиторам их взносы, из-за чего они получили возможность купить мебель и обставить свои новые квартиры. Был он, конечно, злодеем непростым, умел при случае и покупать, не только убивать. Наверное, все новоселы чувствовали к нему благодарность.
Кажется, я могу вспомнить в точности всех обитателей нашего второго подъезда, по крайней мере, с нашей стороны. Мы жили на третьем этаже. Под нами жил нарком Николай Антонович Соснин (это тоже одна из повадок советской власти – поселить в интеллигентском доме какого-нибудь номенклатурного работника). Уровень жизни Соснина существенно отличался от композиторского. Это я поняла, когда, подружившись с его дочерью Маришей, получила в подарок на день рождения ящик пирожных, и эти эклеры, «наполеоны», корзиночки врезались в память невиданным натюрмортом. Надо сказать, о жене Соснина («самого» я плохо знала, хоть он и был всегда очень любезен при встречах, некий таинственный господин в синем пальто и синей шляпе, мягко нырявший в черную машину) я сохранила самые теплые воспоминания. Удивительно добрая, совершенно лишенная какой бы то ни было спеси, связанной с высоким положением мужа, Татьяна Валериановна, красивая, деятельно сочувствующая, всегда готовая прийти на помощь, вызывала в воображении героиню тургеневских времен, с их добрым сдержанным достоинством и скромностью, – вот уж это качество намертво вышло из моды.