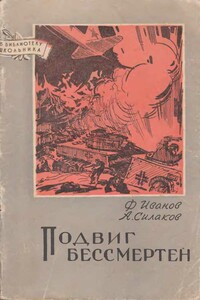«Светлана», «Раз в крещенский вечерок…» – ничего этого я толком не понимала, но тянуло таким обаянием, уютом, человечностью прошлого. Я изучила этот том вдоль и поперек.
И только потом папа дал мне Пушкина, я читала Сказки, «Повести Белкина», и «Барышня-крестьянка» нравилась мне отчего-то больше всего. Марк Твен, Фенимор Купер, Жюль Верн, Чарская (удивительно, что именно ее книги пропали из нашей квартиры за время недолгой нашей эвакуации из Москвы), Вальтер Скотт (никогда его не любила) – все это папа. А Майн Рид… Боже, какие имена на всю жизнь: Луиза Пойндекстер, Генри Пойндекстер, Исидора Каварубио де Лос Ланос, злодей Кассий Кольхаун, и предмет особой любви, но не такой выразительный – Морис Джеральд. А Зебулон Стумп… Сомневаюсь, что я могла бы с такой легкостью перечислить по именам героев куда более значительных литературных произведений. Из советских книг папа дал мне «Белеет парус одинокий» Катаева и «Два капитана» Каверина. Этой книгой я зачитывалась до одурения. Просто влюбилась в Саню Григорьева, Катю (именно тогда я решила, что назову своих детей Катя и Саша, и так оно и получилось), курящую Марью Васильевну, ненавидела предателя Ромашова и коварного Николая Антоновича. Капитан Татаринов внушал мне абстрактное восхищение. «Бороться и искать, найти и не сдаваться» – этот девиз, который придумал для своего героя Вениамин Александрович, очень сильно на меня действовал, и я не знала тогда, что именно так, как рыцарь без страха и упрека, прожил жизнь он сам.
С этой, одной из самых любимых в детстве книгой, связана случившаяся со мной трагикомическая история. Папа, бывало, брал меня с собой, когда наносил какие-нибудь не совсем официальные визиты. Так он привел меня когда-то, еще до своей болезни, к Борису Ливанову. Я знала, что это один из знаменитых актеров МХАТа, робела, но вовсю рассматривала внушительную фигуру этого человека, говорившего непередаваемо глубоким и оглушительным басом. Ливанов решил уделить внимание и мне, он приблизился и спросил: «А что ты сейчас читаешь, девочка?» – «Два капитана», – ответила я. – Уже прочитала». – «А какая часть тебе больше понравилась, первая или вторая?» – спросил Ливанов. И тут я «схитрила». Мне, конечно, больше нравилась первая часть, я перечитывала ее десятки раз, а вторую никак не могла осилить до конца. Но ведь я наверняка ничего не понимаю, – подумала я про себя, – и раз он спрашивает, когда тут и так все ясно, это означает, что вторая лучше и я просто в ней не разобралась. На первый взгляд слишком очевидно, что первая интереснее. – Вторая, – ответила я. – Жаль, – коротко ответил Ливанов и потерял ко мне всякий интерес. Был мне хороший урок: говорить правду. Вообще-то я всегда говорила правду, но был и другой казус, повлиявший на мои понятия чести и честности.
Как и все дети, я не любила заниматься. Я училась в районной музыкальной школе на Пушкинской площади, во дворе бывшего там когда-то кинотеатра «Центральный». Уже тогда, конечно, существовала знаменитая ЦМШ, школа для особо одаренных детей, куда, однако (конечно, не с такой обязательностью, как теперь), отдавали своих чад разные крупные начальники и музыканты. Мама хотела, чтобы я училась в ЦМШ, ей нравились пьески, сочиненные мною во время эвакуации, – в особенности «Коровушка печальная» (мама утверждала, что я называла ее «Коровушкой бычальной»). Но папа категорически отказался отдавать меня в эту школу, считая крайне неудобным, чтобы его дочь появилась в известной школе как бы по протекции.
Как-то в отсутствие моих родителей я благополучно прогуляла положенные мне для занятий сорок минут во дворе, где мы с упоением играли в тогдашние знаменитые детские игры: прятки, салочки, штандер, двенадцать палочек, прыгали через веревочку, играли в волейбол и т. д. Потом я вернулась домой, а тут и папа пришел. На вопрос о занятиях я ответила утвердительно. Да, мол, занималась. И ушла в свою комнату. Потом меня стала мучить совесть, и я решила, что будет очень красиво признаться в том, что на самом деле я не занималась. Я пошла к папе и гордо призналась в своей лжи. Никогда не забуду, как кровь буквально бросилась ему в голову, он побагровел и, в первый и последний раз, довольно чувствительно дал мне понять свой гнев. Именно за это так называемое «благородство» признания. Оно показалось ему хуже, чем, в общем-то, невинная и обычная детская ложь.