— Котенку?
— Адамбергу.
Камилла допила третью бутылку и осторожно поставила ее на стол.
— Нет, — ответила она. — Он и без меня проживет.
Данглар не стал ее уговаривать. После потрясения всегда полезно попутешествовать. Он присмотрит за котенком и будет хранить о ней такое же нежное и прекрасное воспоминание, как сама Камилла, только, разумеется, не такое роскошное.
— Где же ты переночуешь? — спросил он.
Камилла пожала плечами.
— Оставайся здесь, — решил Данглар, — я постелю тебе на кушетке.
— Не беспокойся, Адриан, я так прилягу, не хочу снимать ботинки.
— Почему? Тебе же будет неудобно.
— Ничего. Отныне я буду спать не разуваясь.
— Но они же грязные, — возразил Данглар.
— Лучше быть наготове, независимость важнее.
— Камилла, ты знаешь, что громкие слова еще никого не спасали?
— Да, это я знаю. Глупо, но иногда так и тянет на красивые слова и словечки.
— Ни словами, ни словечками дела не поправить, а уж одиночеством тем паче.
— Тогда чем? — спросила Камилла, снимая ботинки.
— Здравым смыслом.
— Ладно, — ответила она, — придется его себе прикупить.
Камилла вытянулась на кушетке, не закрывая глаз. Данглар пошел в ванную и вернулся с полотенцем и холодной водой.
— Приложи к векам, у тебя глаза опухли.
— Адриан, у Бога еще осталась глина, когда он закончил лепить Жана-Батиста?
— Немножко.
— И что Он с ней сделал?
— Разные хитрые штуки, кожаные подошвы, к примеру. Отличные в носке, только на горке скользят, а от дождя и подавно. Человеку понадобились тысячелетия прежде, чем он додумался приклеить к ним резину.
— На Жана-Батиста резину не приклеишь.
— Чтобы его не заносило? Нет, не получится.
— А что еще, Адриан?
— Да ты знаешь, у него не так уж много глины осталось.
— Так что Он еще слепил?
— Шарики.
— Вот видишь, шарики — это здорово.
Камилла уснула. Данглар подождал полчаса, снял с нее компресс и выключил свет. Потом глядел на девушку, лежащую в темноте. Он отдал бы десять месяцев пива за возможность прикоснуться к ней в те дни, когда Адамберг забывал ее поцеловать. Он взял котенка, поднес к лицу и заглянул ему в глаза.
— Как все по-дурацки, когда такое случается, — сказал Данглар. — Ужасно по-дурацки. А нам с тобой теперь предстоит пожить вместе. Будем ждать, пока она вернется, если вернется. А, Пушок?
Прежде чем лечь спать, он задержался у телефона, раздумывая, не предупредить ли Адамберга. Кого предать, его или Камиллу? И он надолго задумался над этой мрачной дилеммой.
Пока Адамберг поспешно одевался, чтобы догнать Камиллу, девушка с тревогой расспрашивала, как давно он с ней знаком, почему ничего не сказал, спит ли он с ней, любит ли ее, что он думает, зачем он за ней бежит, когда вернется, почему не останется, она ведь не хочет сидеть одна. У Адамберга голова шла кругом, он не знал, что отвечать. Он бросил ее в квартире, зная, что, когда вернется, она все еще будет здесь и забросает его новыми вопросами. А вот с Камиллой все обстояло хуже, потому что Камиллу не тяготило одиночество. Оно так мало страшило ее, что малейшего повода было достаточно, чтобы Камилла пустилась странствовать.
Адамберг быстро шагал по улицам, болтаясь в широком дождевике, который холодил ему руки. Он хорошо знал Камиллу. Она уедет, и очень быстро. Когда Камилле хотелось чего-то нового, удержать ее было так же трудно, как поймать надутую гелием птичку, как остановить ее мать, королеву Матильду, когда та погружалась в океан. Камилла уезжала, чтобы взяться за любую случайную работу где-то на одной ей известных просторах, потому что ей вдруг надоедали извилистые, неловко путающиеся пути. Сейчас она, должно быть, укладывает свои ботинки, синтезатор, закрывает набор инструментов. Камилла очень надеялась на эти инструменты, когда нужно будет заработать на жизнь. Гораздо больше, чем на него, ему она не доверяла, и имела на это право.
Адамберг свернул за угол и взглянул на окно ее квартиры. Темно. Отдуваясь, он уселся на капот чьей-то машины, скрестив руки на груди. Камилла не приходила домой, и, возможно, она скроется, так и не заходя к себе. Так было всегда, когда Камилла отправлялась в путь. Теперь кто знает, когда-то он увидит ее вновь, через пять лет, через десять, а может статься, и никогда.



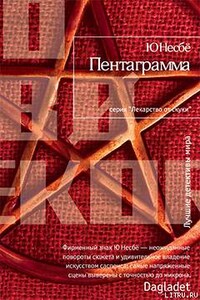

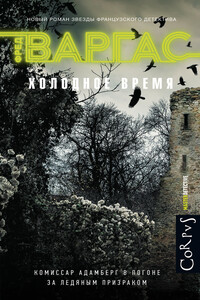
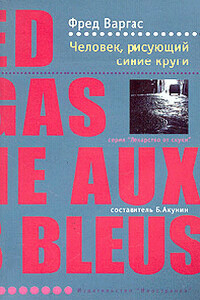

![Расследования Берковича 7 [сборник]](/uploads/books/images/05/059fed21cdd463f4fb84a9fb7798bea05096f86d.jpg)

![Расследования Берковича 11 [сборник]](/uploads/books/images/b4/b4d1bcadf8f8da8bb22e7a1f6b21939ba9e28efb.jpg)
![Расследования Берковича 12 [сборник]](/uploads/books/images/19/19139da6ccfbb4bfe1a543141cd4ea265631da79.jpg)