У Адамберга не было зонта, поэтому на встречу он пришел весь мокрый. Ферез знал об убийце и его привычках только то, что сообщалось в прессе и по телевизору, и теперь слушал подробности от комиссара, не сводя с него глаз. Непроницаемое выражение, которое приняло его лицо по профессиональной привычке, сменилось ясным пристальным взглядом, он, не отрываясь, следил за речью собеседника.
— Я полагаю, — сказал Адамберг после сорока пяти минут непрерывного рассказа, который врач ни разу не перебил, — что необходимо выяснить, почему он выбрал именно чуму. Это не похоже на какую-нибудь банальную повседневную идею, которая у всех на слуху, как, например…
Адамберг запнулся, подыскивая слово.
— Как, например, какая-нибудь модная тема, которая никого не удивит…
Он снова остановился. Иногда ему было трудно подобрать точное слово, а Ферез не спешил прийти на помощь.
— Например, конец света с приходом второго тысячелетия или героическое фэнтези.
— Согласен, — кивнул Ферез.
— Или всякие избитые истории про вампиров, про Христа, про солнце. Все это могло бы послужить красивой упаковкой убийце, который хочет снять с себя ответственность. Под «красивой» я подразумеваю — всем понятной, современной. Он мог бы назваться Повелителем болот, Посланником солнца или Всемогущим, и все бы поняли, что бедняга свихнулся или ему повредили мозги в какой-нибудь секте. Я понятно излагаю?
— Продолжайте, Адамберг. Не хотите под зонтик?
— Нет, спасибо, дождь кончается. Но с этой чумой он выбивается из времени. Он анахроничен и «смешон», как говорит мой зам. Смешон, потому что делает глупости, чума в наше время выглядит, как неандерталец в смокинге. Сеятель отстал от своего века, свернул не на ту дорожку. Вы меня понимаете?
— Продолжайте, — повторил Ферез.
— При всем при том, каким бы анахронизмом ни была эта чума, она все еще способна породить давно забытый ужас, но это другой вопрос. А меня интересует, почему этот субъект так оторвался от своей эпохи, почему выбрал такой сюжет, какой абсолютно никому не пришел бы в голову. В этой непонятности я и хочу разобраться. Я вовсе не утверждаю, что в этом никто ничего не смыслит, этим занимаются историки. Одного я знаю. Но, поправьте меня, если я ошибаюсь, как бы рьяно ни увлекался человек предметом своего изучения, не мог же он из-за этого стать серийным убийцей?
— Вы правы. Предмет изучения остается за пределами подсознания, особенно если человек поздно начал этим заниматься. Это всего лишь род занятий, а не побудительный импульс.
— Даже если он этим занятием чересчур увлечен?
— Даже в этом случае.
— Значит, из импульсов, движущих сеятелем, я должен исключить науку и игру случая. Это не такой человек, который просто сказал себе — возьму-ка я да использую бич Божий, пусть он как громом всех поразит. Это не какой-то болтун и не мистификатор. Быть того не может. У сеятеля не тот размах. Он свято верит в свое дело. Он рисует эти четверки с любовью, в этом весь он. Чума живет в его подсознании, вне всяких пределов. Ему плевать, поймут его или нет. Главное, что он сам себя понимает. Он пользуется ею, потому что так надо. К такому выводу я пришел.
— Правильно, — терпеливо произнес Ферез.
— А если я прав, значит, чума глубоко сидит в нем самом. А это значит, что ее истоки.…
— В семье, — договорил Ферез.
— Точно. Вы согласны со мной?
— Вне всякого сомнения, Адамберг. Потому что иначе не может быть.
— Хорошо, — продолжал комиссар, с облегчением подумав, что самое сложное уже сказано. — Вначале я думал, что, может быть, он переболел сам, когда был молод и жил в какой-нибудь далекой стране, я предполагал несчастный случай, неудачу, что-нибудь в этом роде. Но меня это не удовлетворило.
— И тогда? — подбодрил его Ферез.
— Тогда я стал ломать себе голову, пытаясь понять, как на юные годы человека могло повлиять несчастье, последний раз случившееся в восемнадцатом веке. Единственный вывод, который напрашивался, — что сеятелю теперь двести шестьдесят лет. Но такого не может быть.
— Довольно оригинально. Любопытный был бы пациент.
— Но потом я узнал, что последняя чума в Париже разразилась в 1920 году. А это уже



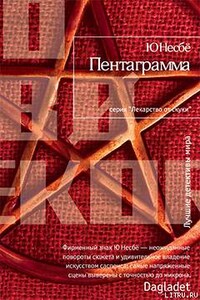

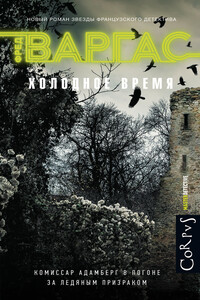
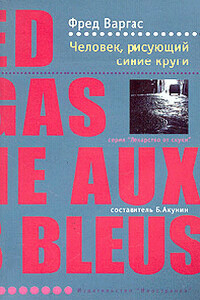

![Расследования Берковича 7 [сборник]](/uploads/books/images/05/059fed21cdd463f4fb84a9fb7798bea05096f86d.jpg)

![Расследования Берковича 11 [сборник]](/uploads/books/images/b4/b4d1bcadf8f8da8bb22e7a1f6b21939ba9e28efb.jpg)
![Расследования Берковича 12 [сборник]](/uploads/books/images/19/19139da6ccfbb4bfe1a543141cd4ea265631da79.jpg)