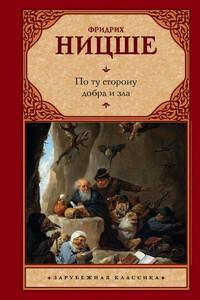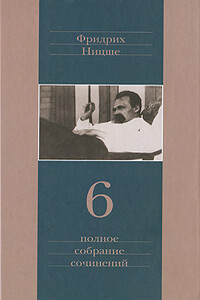Невозможное состояние.
— Беден, весел и независим! — Соединение этих трех состояний возможно. Беден, весел и раб — это тоже возможно; и я не мог бы сказать ничего лучшего фабричным рабочим, хотя они вообще не чувствуют как бесчестие быть употребляемому в качестве винта машины и заполнять собою пробелы в искусстве человеческого изобретения! Фу! Думать, что главная суть их несчастия — я разумею их безличное рабство, — может получить высшую цену в общем итоге! Фу! Позволить уговорить себя, что увеличение безличности внутри этого машинного влечения нового общества может превратить позор рабства в добродетель! Фу! Потерять личность и сделаться винтом! Будете ли вы соучастниками теперешней глупости наций, которые хотят, прежде всего, производить как можно больше, и сделаться как можно богаче? Вы должны были бы оказать им противовес: какие суммы внутренней ценности пришлось бы потратить на эту внешнюю цель! Но где у вас внутренняя ценность, если вы не знаете, что значит свободно двигаться? Владеете ли вы силой хоть сколько-нибудь? Прислушиваетесь ли вы к тому, что делается вокруг вас? Доставляет ли вам удовольствие в быстром возвышении и падении власти, денег, мнений? Вы не верите больше в философию, в прямодушие человека, свободного от нужды! Напротив, волынка социалистических крысоловок не переставая звучит вам в уши, стараясь внушить вам глупые надежды! Она призывает вас быть готовыми и больше ничего, — быть готовыми не сегодня-завтра, так что вы ждете, что должно что-то случиться, и живете все также, все в той обстановке, как жили и до сих пор, пока этио ожидание не сделается голодом, жаждой, лихорадкой, сумасшествием! Должен же каждый наконец, подумать про себя: лучше в диких странах мира быть господином и прежде всего господином себе самому; менять место до тех пор, пока мне будет грози ть хоть малейший признак рабства; испытать всяческие приключения, идти навстречу войне, в худшем случае — умереть, но только дальше — дальше от этого позорного рабства, отравляющего жизнь, делающего человека недовольным, злобным, заговорщиком! Это был бы правильный образ мысли! Рабочие в Европе должны бы были выяснить себе это; положение их как рабочего сословия есть нечто человечески невозможное, а не то что целесообразно; они должны были бы отроиться из европейского улья, чего еще никогда не было до сих пор, и этим переселением, предпринятым в широких размерах, протестовать против машин, капитала… Пусть Европа отпустит от себя четверть населения! И ей и ему на сердце будет легче! Вдали, среди колонизаторских исканий, обнаружится, сколько здравого смысла и ловкости и сколько здорового недоверия вселила масть Европа в своих сыновей, — тех сыновей, которые не могли ужиться с ней, с оглупевшей женщиной, и бежали от опасности сделаться брюзгливыми, раздражительными и сладострастными, как она сама. Добродетели Европы останутся при этих странниках, и то, что на родине стало вырождаться в недовольство, в преступные склонности, там будет приобретать дикую красивую естественность и будет называться героизмом. — Так водворится снова чистый воздух в старую переполнившуюся Европу! Пусть недостает нескольких “рабочих сил”! Тогда узнают, что многие потребности являются только тогда, когда их легко удовлетворить, — и снова отвыкнут от многих потребностей! Может быть, перевезут тогда в Европу китайцев: а они принесут с собой образ мысли и образ жизни, подходящий для трудолюбивых муравьев. Да, они могут помочь беспокойной, истощающей себя Европе, дав ей азиатский покой и азиатскую созерцательность, а главное — в чем Европа больше всего нуждается — азиатскую устойчивость в чистоте крови.
Отношение немцев к морали.
— Немец способен к великому; но невероятно, чтобы он совершил великое, так как он покоряется всюду, где олн может, — что полезно ленивому духу. Если он поставлен в необходимость стоять одинаково и покинуть свою неповоротливость, если ему невозможно исчезнуть как цифре в сумме, — тогда он обнаруживает свои силы, тогда он становится опасным, злым, отважным, приводит в действие запас спящей энергии, которую он носит в себе, и в которую никто не верит, а в том числе и он сам. Если немец в таком случае повинуется самому себе(это большое исключение), то происходит это с такой же неповоротливостью, неумолимостью, постоянством, с какими он повинуется своему королю и чиновникам: тогда он способен на великий шаг, непохожий на тот “слабый характер”, какой он предполагает у себя. Но обыкновенно он боится зависеть только от самого себя, импровизировать: поэтому-то Германия имеет столько чиновников и употребляет столько чернил. —Легкомыслие ему чуждо, оно тяготит его; он в совершенно новых положениях, которые пробуждают его от сонливости, он почти легкомыслен: странность нового положения действует на него как хмель, и он чувствует себя как бы в опьянении! Так, немец в политике почти легкомыслен; если он и пользуется славой основательности и серьезности, и так ведет себя в отношениях с другими политическими силами, то во внутренней политике он заносчив и кичлив, он может быть одновременно и веселым, и прихотливым, и непостоянным, и менять лица, партии и надежды точно маски.