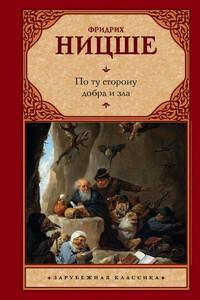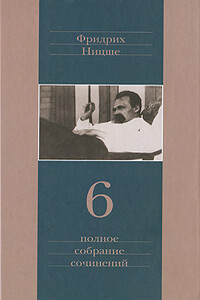И вот является первый рассвет выздоравливания, — и почти первым следствием этого является то, что мы защищаемся против господства вашей гордости: мы называем себя глупыми и суетными, как будто бы мы пережили что-нибудь такое, что было необыкновенным, странным! Вместо благодарности мы унижаем всемогущую гордость, которая помогла нам перенести боль и настойчиво ищем противоядие гордости: мы хотим ослабить себя, обезличиться, после того как боль дала нам силу и личность. “Долой, долой эту гордость! — кричим мы, — она была болезнью, она была припадком!” Мы опять смотрим на человека и природу более жаждущими взорами: грустно улыбаясь, мы припоминаем, что мы знаем теперь об них нечто новое и другое, чем прежде, что покрывало спало — но нам так приятно, что мы снова видим тусклый свет жизни, что мы выходим из страшного, трезвого ясновидения, в котором мы во время страданий смотрели на вещи и дальше сквозь вели. Мы не сердимся на то, что снова начинают играть чары здоровья, — мы смотрим на это как бы испытывая какое-то превращение, выздоравливающие, но все еще утомленные. В этом состоянии нельзя слушать музыки без слез.
Так называемое “я”.
— Язык и предрассудки, на которых построен язык, часто мешают нам выяснить сущность внутренних процессов и желаний, например, вследствие того, что существуют только слова для превосходной степени этих процессов и желаний, а мы привыкли не всматриваться в состояния и факты, если для них недостает слов, потому что там трудно точно мыслить; поэтому обыкновенно заключают, что там, где прекращается область слова, прекращается также и область бытия. Гнев, ненависть, любовь, сострадание, страсть, радость, горе, — все это имена для обозначения крайних состояний: средняя и низкая ступень их ускользает от нас, а между тем они-то и ткут тонкую паутину, составляющую и наш характер, и нашу судьбу. Те крайние взрывы очень часто рвут паутину и составляют исключения, — а между тем они могут ввести наблюдателя в заблуждение и не только наблюдателя, они вводят в заблуждение и самого действующего человека. Все мы представляет собою, в сущности, не то, чем мы кажемся в наших крайних состояниях, которые одни только и можно знать и о которых одних только можно говорить, а следовательно, порицать нас или хвалить. Мы несправедливо судим о себе по этим грубым, легко осязаемым порывам, которые одни только известны нам; мы делаем заключения на основании такого материала, в котором больше исключений, чем правил; мы ошибаемся при чтении этих, по-видимому, только слишком ясных букв нашего “я”. Но наше мнение о себе, составленное таким ложным путем, так называемое наше “я” влияет на наш характер и на нашу судьбу.
Неизвестный мир “субъекта”.
— С чем человеку труднее всего согласиться — это со своим незнанием о самом себе; и это относится ко всей истории от древнейших времен до настоящего! Не только в вопросах о добре и зле, но даже и в вопросах гораздо более существенных! Жива еще старинная иллюзия, что можно знать, и притом вполне точно, о сущности и свойствах каждого поступка человека. Не только само лицо, совершающее какое-либо действие и, следовательно, обдумывающее его, — нет! Даже всякий другой не сомневается, что он будто бы понимает самую сущность в процессе действия каждого другого. “Я знаю, чего я хочу; я знаю, что я сделал; я свободен и отвечаю за это, я могу назвать все нравственные силы, все внутренние движения, сопровождающие действие; вы можете поступать, как вы хотите, я понимаю и себя, и всех вас!” Так думал прежде каждый. Сократ и Платон, великие скептики и достойные удивления реформаторы, верили однако в это проклятое заблуждение, в эту глубочайшую ошибку, — что “за правильным познанием должно следовать правильное действие”; в этом принципе они оказались наследниками всеобщего заблуждения, всеобщего высокомерия: что будто бы можно знать сущность действия. “Было бы страшно, если бы человек, понимая, в чем состоит правильный образ действия, не поступал бы так”, - вот единственный довод, которым те великие мыслители старались оправдать свой принцип; противоположное им казалось немыслимым, глупым. А между тем это противоположное является голой действительностью, подтверждаемой испокон века ежедневно и ежечасно! Не заключается-ли “страшная” правда в том, что то, что вообще можно знать о таком-то поступке, никогда не бывает достаточным для того, чтобы заставить совершить его, что до сих пор не построен еще мост, связывающий воедино знание о поступке с самим поступком? Поступки никогда не бывают тем, чем они кажутся нам! Нам стоило такого громадного труда понять, что вещи не есть то, чем они кажутся нам, — с внутренним миром дело обстоит точно так же! Моральные действия в действительности, “нечто другое”, чем они кажутся нам; и все действия человека, в сущности, нам неизвестны. Противоположное мнение было и теперь продолжает быть всеобщей верой: против нас действует древнейший реализм; человечество думало до сих пор: “поступок человека есть то, чем он кажется нам”. (При пересмотре этого места я вспомнил очень выразительные слова Шопенгауэра, которые я хочу привести в доказательство того, что и он, без всяких колебаний, стоял за этот моральный реализм и таким остался навсегда, “Действительно, каждый из нас, — говорит он, — компетентный и вполне моральный судья, точно знающий добро и зло, святой, если он любит добро и презирает зло”. Все это относится к тому, кто должен оценивать не свои собственные, а чужие поступки и одобрять их или не одобрять, а тяжесть исполнения несется на чужих плечах.