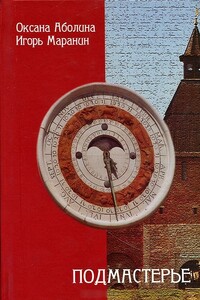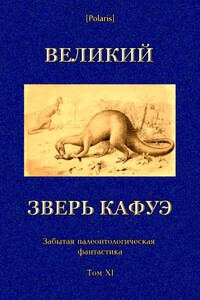Летом восемьдесят седьмого года в этих местах, говорят, стояла такая жара, что почти как в Средней Азии к августу скукожились и облетели листья с деревьев. Потом и осень выдалась без дождей, и от того песчаная земля не смерзлась и теперь, в двадцатиградусный мороз, легко осыпалась и стекала в яму тонкими скользящими ручейками
А стоять пришлось у самого края, поскольку с другой стороны гроба пристроились местный судебно-медицинский эксперт со своими чемоданчиками, начальник уголовного розыска и фотограф с аппаратурой – ему оттуда было удобнее снимать Бурцеву казалось, что твердь из-под ног медленно уплывает в могилу, и потому постепенно отступал, вплотную прижимаясь к вынутой из ямы обшитой кумачом домовине. Так что, когда могильщики, и они же понятые, сняли крышку, он оказался у изголовья, словно близкий родственник.
По просьбе фотографа процесс эксгумации делали поэтапно, давая время для съемки. Покрывала можно было не снимать, и так видно, что головы у покойного нет, однако эксперт отвернул край дешевенькой белой ткани с нашитым черным крестом, и Бурцев непроизвольно отшатнулся, чуть не свалившись в яму, удержал могильщик, ловко зацепив за воротник жесткой, костлявой пятерней.
– Спасибо, – сказал Сергей, освобождаясь от хваткой руки.
Без особых исследований можно было заключить, что голова худенького, утлого и почти невесомого старичка не отрублена, а аккуратно отрезана опытной хирургической рукой по первый шейный позвонок: нож даже не коснулся межпозвонкового диска. А на подушечке остались неглубокая круглая вмятина и церковный венчик, изорванный и скомканный в шарик.
– Ну вот, что я говорил? – победоносно заключил могильщик, удержавший Бурцева, и посмотрел на начальника местной уголовки. – Я когда сам заглянул, аж тошно стало.
– Не мешай работать, – буркнул тот, обрывая с усов белые сосульки.
Эксперт дождался, когда закончится съемка, и снял с покойного покрывало, сунул его могильщику. Сергею бросились в глаза тонкие синеватые ручки старичка, сжимающие молитву-грамотку, как-то очень уж небрежно всунутую в кулачок, однако в следующий миг он заметил на правом указательном пальце большой литой перстень с крупным зеленым камнем. Фотограф понял его желание, отдельным кадром снял руки, и после того Бурцев осторожно освободил палец от перстня.
Несомненно, это была старинная ювелирная работа талантливого мастера. Искусно ограненный изумруд удерживался тончайшими витыми лепестками, незаметно врастающими в основание перстня, и, просвеченный солнцем, камень зеленил желтый металл, заставляя светиться и его.
– Ого! – сказал могильщик, дыхнув в затылок перегаром. – Вася, гляди-ка, ничего себе прикид у жмурика! Гляди, гляди! Мать моя женщина!..
Второй могильщик полез было на сторону Бурцева, но тот спрятал перстень в пластиковый пакетик и убрал в карман. «Прикид» действительно был не по одежке: покойного обрядили почему-то в поношенные солдатские брюки, гимнастерку и опоясали обыкновенным брючным ремнем. Разве что хромовые сапоги новые, блестящие, не знавшие дорожной пыли. А перстень надели никак не по солдатскому чину…
Бурцев так же осторожно извлек из кулачка грамотку и попросил фотографа сделать еще один крупный план. На зеленоватой бумажке поверх печатного текста молитвы ярким желтым фломастером была начертана какая-то надпись, сделанная совершенно непонятными знаками. Причем было впечатление, что писавший и сам не понимал смысла и назначения этих букв, а скорее всего перерисовал довольно длинную строку, как это делают дети, осваивающие письмо.