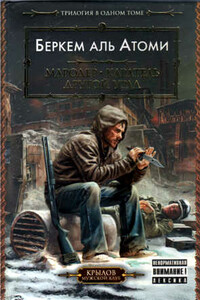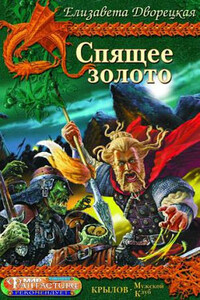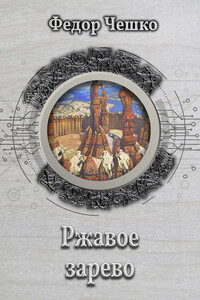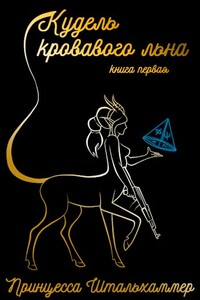* * *
Все-таки ночью пришлось разбирать запоры на входной двери да ломать сотворенные Белоконихой Старой приговоры от Злых.
Как ни зыбка была сморившая Кудеслава дремота, первым подхватиться с полатей удалось все же не ему, а которой-то из Белоконих. Когда Мечник, на ходу застегивая пояс с мечом, выскочил в сени, обе хранильниковы жены были уже там: Старая светила масляным каганцом, Молодая (это которая пятый десяток доживает) поспешно отваливала засов.
Нет, бабы не лихое что-то почуяли, и вовсе не хотелось им сразиться с людоедом. Причиной ночного переполоха был возвратившийся из леса хозяин подворья. Одним Навьим ведомо, как бабы догадались о его появлении. Волхв просто подошел к затворенному входу и остановился, дожидаясь, чтоб отперли. Ждал он молчком да тишком и наверняка очень недолго.
Вроде бы Белоконихи, вскакивая, не успели нашуметь (а уж Кудеслав тем более), но сени мигом наполнились хранильниковыми невестками и их потомством. Гудоева Милонега даже с младенцем приволоклась. В тесноте несмышленыша придавили, и третий Белоконев внук (внучек-то хранильниковых счесть не хватит пальцев на руках и ногах, а внуков лишь три — старшему еще восьми нет) зашелся надрывным плачем. Белокониха Старая замахала руками на сынову бабу, и та выметнулась в избяные потемки — успокаивать да баюкать. Но и без нее в сенях шагу нельзя было ступить.
Прижатый к стене жаркими, влажными со сна девичьими телами, Кудеслав только и смог, что взглядом перекинуться со старым волхвом: тут, мол, я, приехал, ждать не заставил. Белоконь улыбнулся ему, кивнул; потом стремительным цепким взглядом окинул встречающих.
Боги ведают, сколько лет успел прожить Белоконь. На памяти Кудеслава он всегда был таким, как в ту ночь. Рослый, костистый; лик морщинист, но на диво подвижен; седая стриженая борода — по грудь, заплетенные косами усы — по пояс; глаза — что угли в очаге: черным-черны, однако же нет-нет да и полыхнут стремительным жарким светом… Даже в лютейшие морозы он не искал иного покрова для головы, кроме длинной гривы чуть вьющихся белоснежных волос. И одевался он всегда только в белое, так что нынешний горностаевый полушубок (за такой даже у ближних соседей можно взять хоть редкостного персидского жеребца вместе с украшенной самоцветными каменьями сбруей) надет не ради бахвальства достатком — тороватые бахвалы не носят лыковые лапти да грубую, хоть и выбеленную, холстину.
Да, сколько лет успел прожить Белоконь, ведают одни только боги. Наверняка более семи десятков, а на сколько более? Кудеслав как-то спрашивал, но волхв отшутился — так, дескать, долго живу, что уж и счет годам потерял. Может, и слукавил старик, а может, и нет. Верно лишь то, что он в мельчайших подробностях помнит дела старины, которые даже столетний глава кузнецов Зван еле-еле способен оживить в памяти. А еще верно то, что понадобься, к примеру, Кудеславу опора для ходьбы, которая бы при случае и вместо оружия годилась, так Мечник бы себе по силам своим сделал посох легче того, без которого Белоконь шагу ступить не хочет.
— Ну, встретили, потешили старика, — благодушно прогудел волхв, оглядывая лица, еле высвеченные огоньком каганца. — Ступайте-ка теперь спать: день будет труден да хлопотен.
Хранильникова родня, толкаясь и перешептываясь, полезла из сеней. Притертый к стене Кудеслав против воли замешкался — пристало ли ему толкаться на равных с бабами, девками да детьми?! Кстати сказать, некоторые Белоконевы внучки (иные отцы таких уже год-другой назад спихнули бы замуж, чтоб не переводить понапрасну корма), укладываясь в жаркой избе да на теплых мехах, сочли излишним обременяться одеждой — толкотня с ними оказалась бы чрезмерным испытанием для здорового неженатого мужика.
Так что по всяким-разным соображениям Мечник решил убраться из сеней последним, а потому невольно услыхал разговор Белоконя со старшей женой.
— Встретили, да не все, — тихим, будто заледеневшим голосом сказал волхв, пристально вглядываясь в криворотую морщинистую личину. — Где Векша?!
— Я звала, кормилец, чем хошь поклянусь, — торопливо забормотала старуха. — Вон и Кудеслав свидетель: звала-звала, а он-н…