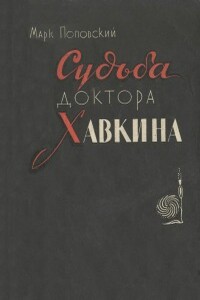Управляемая наука - страница 29
«Советский ученый… должен не только защищать принципы советской науки, но и уметь доказать преимущества ее перед буржуазной наукой. Это особенно важно сейчас, когда так расширяются международные связи. Нам кажется, все это объясняет необходимость при подборе кадров сотрудников в НИИ и высшие учебные заведения более серьезно оценивать наряду с деловыми качествами и степень их политической зрелости».[41]
Так писали в 1968 году. Но и сегодня я мог бы найти сколько угодно столь же непримиримых газетных статей. Ибо отбор ученых на верность, а не на талант — официальная, десятилетиями лелеемая властями доктрина. «Высокая идейность» — один из фундаментальных кирпичей управляемой науки.
Молодого человека. Стремящегося к научному творчеству, начинают искушать очень рано. Преподаватель литературы Новосибирского Университета Г. рассказывает:
«На первом и втором курсах студенты ведут себя довольно раскованно. В разговорах между собой и с преподавателями высказывают довольно независимые суждения, В туристском походе, на студенческой вечеринке можно услышать „идеологически невыдержанную“ песенку или анекдот. Среди первокурсников нередки разговоры о попираемой справедливости, они нетерпимы, когда кто-то пытается покуситься на их права. Но на третьем курсе ребят как-будто подменяют. На третьем происходит резкое духовное перерождение студента. Никаких невыдержанных песенок, никаких споров с преподавателями „из принципа“ — студента будто пригладили. Он внимательно и преданно смотрит в глаза профессора и доцента, его голос все чаще звучит на комсомольских собраниях. Потому что на третьем курсе надо выбирать научного руководителя дипломной работы. От этого первого шефа многое зависит в будущем. Шеф может послать в аспирантуру, а может и завалить несимпатичного ему студента, не рекомендовать его в науку. Это первый искус губит не всех, кое-кто сохраняет свою душевную структуру до конца института, но такие в науку как правило не попадают».
Новосибирский собеседник обратил мое внимание на то, что профессиональные и моральные качества исследователей, как правило, выше в тех областях науки, куда слабее проникает идеология. Кстати, и успехи этих наук, как правило, выше, нежели в науках идеологизированных. Происходит это оттого, считает преподаватель из Новосибирска, что к математикам, физикам, химикам и даже биологам хозяева студенческих душ из парткомов предъявляют сравнительно более мягкие требования идеологического характера. Способные математики и физики проскальзывают сквозь партийное сито, благодаря рекомендации своих профессоров. Но уже молодой географ, которого интересует география зарубежных стран, подвергается самому бдительному досмотру. Его идеологический «багаж» перетряхивают как в таможне и если, не дай Бог, обнаружат у него хоть самую малость недозволенного — прощай научная карьера. Об историках, философах, экономистах, литераторах — и говорить не приходится: этих разглядывают с самым пристальным вниманием, пользуясь самыми сильными увеличительными стеклами.
У научного миллиона, впрочем, есть одно преимущество: при таком количестве народа, как не просеивай, а всех одаренных и увлеченных все-таки вышвырнуть не удается. Да и нужны они, эти одаренные. Ведь надо же кому-то дело делать. В целом миллион содержит творческих работников не так уж много. С этим соглашается и официальная пресса.[42] Отечественные социологи установили даже, сколько людей в науке работает и сколько при ней состоит. Оказывается больше половины научной продукции производит десять процентов ученых. По моим наблюдениям число научных сотрудников, способных к оригинальному научному синтезу, значительно меньше. Но сколько бы их ни было, этих одаренных искателей истины, именно им в науке нашей приходится тяжелее всего.
![«Мы — там и здесь» [Разговоры с российскими эмигрантами в Америке]](/uploads/books/images/b5/b580faa0aa2fe66b2e4ab892819ebb47d23cc222.jpg)