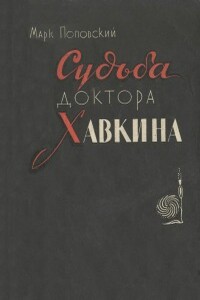История с академиком Крепсом — чистый эксперимент: тут все элементы на виду — преступление и наказание. Незадолго до того однако, в Ленинграде тот же Выборгский райком партии продемонстрировал свою власть над другим ученым не столь откровенно, хотя и столь же решительно. В 1964 году Академия наук избрала в члены-корреспонденты сорокачетырехлетнего одаренного метеоролога, специалиста по вопросам геофизики атмосферы и гидросферы Михаила Ивановича Будыко. Вскоре затем молодого специалиста назначили на пост директора Центральной геофизической обсерватории в Ленинграде. Ученая карьера Будыко шла по восходящей. Его избрали в Бюро Отделения океанографии, физики атмосферы и географии, его выдвинули в академики. И вдруг грянул партийный гром. На Общем собрании академиков, когда публика приготовилась к выборам. Президент Келдыш вдруг прочитал письмо, полученное из Ленинграда. Писал Первый секретарь Ленинградского Обкома партии Романов. Писал сердито: извещаю Президиум Академии наук, что член-корреспондент Будыко в своей директорской деятельности не прислушивается к советам парторганизации Института, конфликтует с институтским партсекретарем. Романов не рекомендовал избирать Будыко в академики. И хотя вроде бы и не подчиняется Академия наук СССР Ленинградскому Обкому КПСС, но тем не менее большинство академиков проголосовало так, как требовало партийное начальство. Будыко академиком не стал. А вскоре перестал он быть и директором Обсерватории. Подлинная вина его состояла в том, что нарушая секретный приказ Обкома партии Будыко взял на работу несколько евреев. Команду нарушил, а главное — выявил свою неуправляемость. И погорел. А на место его поставили того самого партсекретаря, который донес в райком на своего директора.
У двух этих историй есть общая концовка. Поскольку внутренний механизм увольнения директора, как правило, держится в строжайшем секрете, то сотрудники Института эволюционной физиологии долгое время сомневались, действительно ли в изгнании их руководителя повинен райком. Ученым было как-то не по себе от простоты, с которой маленькие вроде партийные чиновники могут расправляться с видными деятелями науки, с международной величиной. В институтских кулуарах высказывались по этому поводу различные «смягчающие» догадки: может быть академик Крепс погорячился, разговаривая в райкоме, а может быть и всерьез проштрафился перед руководством Академии наук… Но однажды на очередное партийное собрание в Институт пришел молодой инструктор райкома и с гордостью разъяснил своим ученым слушателям, что именно Выборгский райком партии (да, да райком!) сместил двух директоров академических институтов. Операция эта была преднамеренной и составляет несомненную заслугу партийных работников. Пусть ученые это знают доподлинно и не забывают, кто настоящий хозяин науки.
Отношения между наукой и властью, однако, совсем не так просты как, скажем, отношения между конем и всадником. Есть и нюансы.
Живя весь век под прессом насилия, человек не может постоянно пребывать в напряжении. Нельзя вечно ощущать себя только жертвой или только борцом за справедливость. Человек стремится создать более уравновешенную, психологически более комфортную систему отношений с внешним миром. Он начинает искать объяснения и даже обоснования гнета, пытается убедить себя и окружающих, что в общем-то терпеть можно, и, как написал мне после разгрома и разгона его лаборатории в Тарту эстонский социолог:
«Тяжелее бывало. И блокаду переносили…».
Такая новая система отношений с внешним миром позволяет не только примириться с самыми гнусными фактами бытия, но даже начать (безо всякого цинизма, подчас!) сотрудничать со своими гонителями. Из лучших, так сказать, побуждений, ради пользы науки. Один из ближайших сотрудников Нобелевского лауреата академика химика Н. Н. Семенова слышал от него целую «кадровую» концепцию. Труд ученого — огромная ценность. В наших условиях быть директором института или руководителем сектора ученому не по силам, количество административных обязанностей таково, что полностью глушит творческий потенциал исследователя. Поэтому нет ничего плохого, если на руководящих должностях в науке окажутся партийные товарищи или иные должностные лица, владеющие административным талантом. Конечно, их придется за это обеспечить учеными степенями и академическими званиями, но зато сколько драгоценного времени высвободится у настоящих ученых!
![«Мы — там и здесь» [Разговоры с российскими эмигрантами в Америке]](/uploads/books/images/b5/b580faa0aa2fe66b2e4ab892819ebb47d23cc222.jpg)